Почему мы поддаемся на уловки мошенников? Как создаются ложные воспоминания? И почему мы ничего не помним из детства? Профессор и исследователь Мануэль Мартин-Лоэчес всё объясняет в книге «Умнее всех? Как наш мозг думает и принимает решения». А мы публикуем отрывок из главы про ошибки памяти и сознания — с разрешения издательства «Альпина нон-фикшн». Расскажите потом, сколько когнитивных ошибок вы нашли у себя.
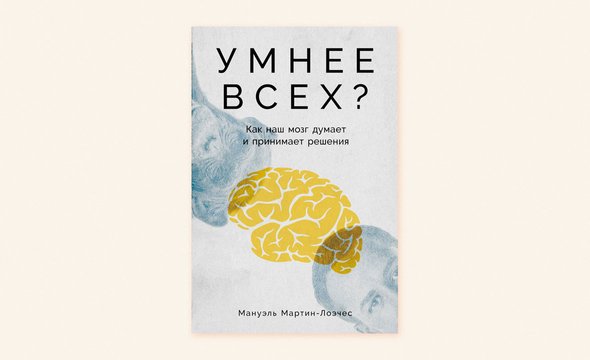
Что такое когнитивные искажения
Когнитивные искажения — это систематические, повторяющиеся и очень распространенные ошибки нашего способа мышления. Их также называют логическими ошибками или когнитивными предубеждениями, хотя термин «когнитивные искажения» наиболее распространен. Искажений много, и они очень интересны, а в последние десятилетия их тщательно изучают, ведь с их помощью можно объяснить множество социальных и поведенческих феноменов — как индивидуальных, так и коллективных. Когнитивные искажения, как в положительном, так и (чаще) в отрицательном смысле, приводят к важным последствиям в социуме, политике и экономике. Давайте рассмотрим некоторые из них, самые известные и значимые, хотя список можно продолжать бесконечно.
Одно из частых искажений известно как предвзятость подтверждения. Оно заключается в склонности собирать, выбирать или обращать внимание на информацию, подтверждающую убеждения, к которым мы пришли ранее. Если у меня есть убеждение по какому‐то вопросу, то я ищу доказательства, подтверждающие его, но, возможно, игнорирую многие другие, которые указывают на то, что я ошибаюсь. Игнорирование определенных доказательств является важной частью этого искажения.
Да, беспристрастное суждение не должно формироваться таким образом, но люди таковы, каковы они есть, и мышление человека почти никогда не основано на данных во всей их полноте. Это искажение может формироваться в течение длительных временных периодов — дней, месяцев или лет, но может возникнуть и за несколько секунд.
Когда, например, нам описывают некоего человека как общительного, внимательного к мелочам, утонченного и беспринципного, мы составим о нем одно мнение, а если его же опишут как беспринципного, утонченного, внимательного к мелочам и общительного, то и мнение сложится другое. Те же самые прилагательные — но в другом порядке: первое прилагательное уже формирует у нас мнение об этом человеке, а потом мы придаем меньше значения и не обращаем внимания на последующие прилагательные, которые могли бы это мнение уточнить или изменить. Это также происходит, когда мы впервые встречаем кого‐то физически привлекательного, с красивыми чертами, — мы автоматически составляем хорошее впечатление о таком человеке, и оно может сохраниться, даже если появятся доказательства, что не все золото, что блестит.
Иногда подтверждающее предубеждение накладывается на эффект желаемого мышления, поскольку информация, которую мы выбираем, поддерживает не только уже имеющуюся у нас идею, но и наше желание, чтобы она оказалась истинной. Оба искажения очень распространены среди людей, верящих в псевдонауку и паранормальные явления, но также повсеместно встречаются в обычной жизни.
Очень близко к подтверждающему предубеждению стоит эффект ложного консенсуса — склонность переоценивать степень согласия других людей с нашими убеждениями и взглядами. Выражения типа «все прекрасно знают» или «кто угодно подтвердит» являются типичными признаками этого искажения. Это объясняет, например, почему мы доверяем одним средствам массовой информации больше, чем другим, и с особым удовольствием читаем и слушаем то, что подтверждает нашу правоту.
Как видим, когнитивным искажениям хорошо живется в нашем социальном мозге. Некоторые из них вообще типично или исключительно социальные, такие как тесно связанные между собой искажение правдивости и иллюзия прозрачности. Из‐за первого мы склонны верить, что другие говорят правду, хотя прекрасно знаем, что лгать легко и почти все на это способны. По умолчанию мы верим, что другие всегда честны; мы склонны доверять людям, в том числе незнакомым. Это искажение очень распространено, что приводит к огромному количеству случаев мошенничества, афер и других преступлений — как против отдельных лиц, так в отношении целых компаний.
Иллюзия прозрачности, в свою очередь, заключается в вере в то, что мы способны считывать эмоции по лицам других людей; нам кажется, что по выражению лица мы достоверно и надежно понимаем, что у человека в голове. Конечно, мимика порой бывает непроизвольной или плохо поддается контролю, поэтому до определенной степени может быть искренней. Но по ряду причин это не всегда так.
Многие люди способны успешно контролировать свое выражение лица. Этому можно научиться, а методы включают, например, самообман и временное убеждение себя в некой идее, которая сейчас пойдет нам на пользу. Человек может быть виртуозом самообмана. Мимику также можно натренировать, что и делают актеры и многие политики.
По идее, мозг человека должен прекрасно считывать выражения лиц и выявлять обман, но в реальности нас обманывают очень часто
Любопытно, что часть этого искажения — уверенность, что такого не произойдет, что лишь усугубляет искажение правдивости. С другой стороны, даже без учета намеренного контроля мимики выраженные эмоции, по‐видимому, не такая простая и универсальная штука, как раньше считалось. Мы обсудим это позже, а пока скажу, что искажение прозрачности подразумевает веру в то, что мимика проста и универсальна и что понять эмоции человека проще, чем на самом деле.
В своей социальной жизни мы совершаем множество ошибок, будучи ослеплены когнитивными искажениями. Мы склонны считать, что, когда кто‐то причиняет нам вред, он или она действуют сообразно своим намерениям, и забываем, что поведение других может быть обусловлено обстоятельствами, контекстом, другими людьми. Это искажение известно как ошибка атрибуции. В рамках этой ошибки мы оцениваем свое поведение и поведение других неодинаково, как бы применяем двойной стандарт. В отношении собственного поведения мы готовы принимать в расчет обстоятельства, контексты и много других смягчающих факторов — в мозге есть механизм «интерпретатора», всегда готового защищать наш образ; но при оценке поведения других мы всего этого не учитываем.
В этом смысле мне кажется уместным упомянуть так называемую ошибку в свою пользу, которая заключается в том, чтобы приписывать себе больше ответственности за успехи, чем за неудачи, — ведь последние почти всегда будут обусловлены внешними обстоятельствами или вмешательством третьих лиц. Это тоже способ сохранить самооценку.
Вера в то, что все должно иметь некий финал, хотя это не всегда так, является еще одним искажением — потребностью в завершении. Если недавно произошло какое‐то редкое и значимое событие, например авиакатастрофа, мы склонны переоценивать вероятность его повторения, что опять же является искажением.
С другой стороны, на этапе планирования мы часто считаем, что проект займет определенное время, а потом оказывается, что времени нужно гораздо больше; это пример искажения, известного как ошибка планирования.
В результате эффекта ретроспективного искажения мы склонны верить, что нечто произошедшее было очевидным и легко предсказуемым, даже если на самом деле оно стало результатом цепочки во многом случайных и непредсказуемых событий. Вера в то, что люди с определенным цветом кожи, представители определенных этнических или социальных групп более склонны к преступности, — это еще один частый пример искажений, способных влиять на приговоры и судебные решения.
Когнитивные искажения могут быть результатом личного опыта, социальных взаимодействий и культурных традиций, и в основном это убеждения, не основанные на систематическом сборе данных.
Списки когнитивных искажений очень обширны. Некоторые получают названия, другие — нет, и даже одно и то же искажение может появляться в публикациях под разными названиями или в различных вариантах. Надеюсь, приведенные примеры позволят получить представление о том, что собой представляют когнитивные искажения и как они влияют на нашу повседневную жизнь, в том числе в профессиональной и институциональной сферах.
Ошибки памяти
Во что большинство людей с трудом может поверить — так это в то, что человеческая память крайне ненадежна, и не только потому, что мы склонны многое забывать.
Дело в том, что наши, казалось бы, подробные воспоминания часто содержат множество ошибок. Воспоминания могут вообще быть ложными, в них могут появляться добавленные данные, которых в действительности не было, а какие‐то элементы могут меняться или исчезать.
Память может искажаться уже в сам момент кодирования данных для хранения
Одно из когнитивных искажений человека называется именно искажением памяти: это слепая вера в ее надежность. Людям свойственна чрезмерная уверенность в надежности своей памяти, в понятии «я видел это собственными глазами». Но память не так надежна, как кажется, и это подтверждено множеством экспериментов.
Об этом искажении часто хорошо осведомлены судьи, которые знают, что показания по делу следует принимать с осторожностью, как бы ни были свидетели уверены в их достоверности. При этом человек может быть искренне убежден, что точно описывает увиденное, и быть абсолютно неправым. Такой свидетель не лжет, не испытывает сомнений в своих показаниях — он уверен в надежности собственной памяти.
Уже много лет известны некоторые механизмы, с помощью которых можно внушить людям ложные воспоминания, память о событиях, которых не было, но в которых они будут абсолютно уверены. Один из способов этого добиться — использовать другое когнитивное искажение, искажение авторитета. Это из‐за него у нас есть тенденция верить авторитетным (для нас) людям или источникам и без проверки принимать исходящую от них информацию. Конечно, это искажение иногда оказывается даже полезным: часто авторитет в той или иной области действительно транслирует корректную информацию, что и позволяет нам не тратить время на собственные проверки. Но это искажение можно использовать и в неблаговидных целях. Или в экспериментах, чтобы сформировать ложные воспоминания.
В одном из такого рода экспериментов исследователи договариваются с родителями группы подростков или молодых людей, которым собираются внушить ложное воспоминание. Родители помогают создать историю, которой на самом деле не было. В первом интервью этим молодым людям объясняют, что их родители рассказали интервьюеру о событии, произошедшем с ними в детстве. Например, о том, как они потерялись, попали в автокатастрофу или катались на воздушном шаре. Иногда, хотя и не обязательно, им могут показать сфальсифицированные фотографии. Затем их расспрашивают о подробностях этого события: когда и где это произошло, кто там был, могут ли они вспомнить образы, ощущения, детали и так далее. Логично, что большинство сообщает, что ничего не помнит. Однако у нас есть не менее двух источников авторитета: родитель и сам интервьюер. Через несколько дней интервью повторяется, и подростков настойчиво просят вспомнить это событие. И вот уже через несколько дней, в третьем интервью, около половины опрошенных абсолютно уверены, что это ложное событие действительно произошло. Мало того, они еще и добавляют в рассказ новые подробности.
Интересно, что, однажды внушенное, ложное воспоминание очень трудно удалить
Недостаточно просто сказать, что всё было подстроено, сослаться на противоречия и предъявить доказательства. Это не работает. Такова человеческая память. Тем не менее недавние исследования показали, что процесс можно сделать обратимым, если интервьюер, используя свой авторитет, осведомит участников исследования о существовании двух возможных источников ложных воспоминаний. С одной стороны, им говорят, что воспоминания не всегда являются результатом собственного опыта, а часто формируются на основе историй, которые нам рассказывают, или фотографий.
Например, многие люди считают, что у них есть воспоминания об их первых трех‐пяти годах жизни, и рассказывают подробности о событиях этого периода, таких как побег из дома или падение сковороды с горячим маслом. Однако, за редким исключением, эти воспоминания невозможны из‐за так называемой инфантильной амнезии, исчезновения всех воспоминаний о первых годах жизни в результате незрелости гиппокампа и его связей с корой головного мозга.
Помнит ли кто‐то день своего появления на свет? А ведь это важное событие. С другой стороны, участникам эксперимента говорят, что иногда ложные воспоминания возникают просто из‐за того, что человека несколько раз подряд просят о чем‐то вспомнить — именно так, как в эксперименте. После принятия этих утверждений участники, как правило, способны перестать верить в свои ложные воспоминания. Но и за пределами экспериментов, в реальной жизни, многие люди живут и взаимодействуют с ложными воспоминаниями, которые порой существенно влияют на их жизнь.
Когнитивный шум
Это еще один важный источник ошибочных решений, и не только личного характера, но и политических, профессиональных или связанных с ведением бизнеса. Когнитивный шум приводит к произвольным, порой беззаконным действиям в правосудии, здравоохранении или образовании, выливающимся впоследствии в затраты усилий и финансовых ресурсов. Шум — это то, из‐за чего решение, принятое по определенному вопросу в понедельник утром, будет сильно отличаться от решения, которое было бы принято в пятницу вечером. И этот шум сопровождает наш, самый умный на планете, вид в повседневной жизни.
Сложность решений и объективная непредсказуемость большинства дел, в отношении которых необходимо прийти к какому‐то решению, то есть обычные характеристики нашего социального мира, являются отличной питательной средой для шума.
Даниэль Канеман, Оливье Сибони и Касс Санстейн недавно посвятили обсуждению этой проблемы целую книгу. По мнению авторов, шум как источник ошибок в наших решениях можно разделить на два основных типа: шум уровня и шум паттерна.
Шум уровня в целом связан с характером каждого человека, с личным подходом к окружающему миру. Пессимизм или оптимизм, строгость или снисходительность, экономность или расточительность, зависимость от ласки или склонность к отчуждению — примеры относительно стабильных черт, которые будут влиять на наши суждения и решения, на мысли о том, как мы хотим и должны действовать, как рассматриваем других и относимся к ним.
Еще один пример шума уровня — это восприятие некоторых слов с нечетким значением; например, один понимает слово «вероятно» как простую возможность, а другой — как очень высокую вероятность. Если кто‐то считает, что на шкале от 0 до 6 оценка 4 является очень высокой, в то время как другой воспринимает ее как среднюю, это также эффект шума уровня. Выводы из одной и той же ситуации или решения одной и той же проблемы могут значительно различаться из‐за этого типа шума.
А вот шум паттерна делится на два типа: стабильный и случайный. Первый зависит от личных особенностей каждого человека, помимо общих черт его личности, например от частного жизненного опыта. К примеру, судья может назначить более мягкое наказание подсудимой, которая внешне напоминает его собственную дочь или потому, что дело напоминает ему один случай с родственницей, совершившей те же ошибки.
То, что каждый человек считает наиболее важным, также является источником шума паттерна стабильного типа. Например, если вы считаете свои книги одной из главных ценностей и кто‐то не вернет вам одну из книг, вы можете гораздо сильнее обидеться, чем если бы вам не вернули блендер, — хотя цена обоих предметов одинаковая. Есть даже такая поговорка: кто одалживает книгу другу, теряет и книгу, и друга.
Другой тип шума паттерна называется случайным. Его можно также назвать нестабильным шумом паттерна, так как нестабильность — его основная характеристика. Значимость шума паттерна случайного типа несколько ниже по сравнению с другими источниками ошибок, такими как когнитивные искажения, шум уровня и шум паттерна стабильного типа. Но и игнорировать его не следует.
Наш мозг не функционирует абсолютно одинаковым образом в разное время, и в разные моменты мы можем прийти к различным решениям одного вопроса
Врач, изучая один и тот же рентгеновский снимок, может поставить один диагноз в один день и другой — несколько дней спустя. Это происходит и с экспертами, которые анализируют отпечатки пальцев для полиции. Или с преподавателями, проверяющими домашнюю работу. Неважно, какие когнитивные искажения есть у каждого из них и каковы их источники шума уровня или шума паттерна стабильного типа; можно прийти к различным выводам в разное время просто потому, что эти моменты времени чем‐то отличаются друг от друга. Видимо, основной источник шума такого типа — наше текущее эмоциональное состояние. Подтверждено, что наши выводы относительно какой‐либо ситуации могут варьировать в зависимости от того, выиграла ли наша любимая команда накануне, или от того, какой фильм мы посмотрели — комедию или драму.
Обложка: © fran_kie, Rawpixel.com / Shutterstock / Fotodom

УЧИТЕЛЯ
«В вольер с приматами мы смотрим, как в зеркало»: почему старшеклассникам важно ходить в зоопарк. Советы и наводки учителя биологии

ШКОЛЬНИКИ
Когда не нужен репетитор: 5 неочевидных причин, почему ваш ребенок стал учиться хуже

TEENS
«Был веселый пацанчик, стал депрессивный»: подростки — о своих первых отношениях
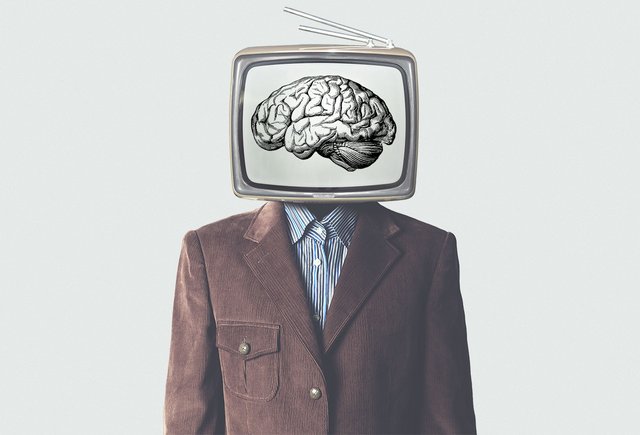









1. Выделяю из текста:
«Когнитивные искажения могут быть результатом личного опыта, социальных взаимодействий и культурных традиций».
Именно так, когда родители во всём доверяют школе, а при этом не учитывают, что школьная программа игнорирует индивидуальные особенности ученика, о чём на https://mel.fm/blog/menedzhment-rynochny/56382-kak-gubyat-talanty
2. Ещё цитата: «тенденция верить авторитетным (для нас) людям или источникам и без проверки принимать исходящую от них информацию».
Вера в государство воспитывается с пелёнок, когда за государство мы принимаем любую государственную должность. Вот почему телефонные мошенники часто представляются полицейскими, работниками социальной службой, представителями МГТС или иной авторитетной службы.
3. Из заголовка: «не стоит верить своим детским воспоминаниям».
Подчас сами родители формируют когнитивные искажения у своих детей, когда следуют привычной им педагогике принуждения, но всё больше родителей не ждут милости от государства, а ищут пути реализации педагогики выбора, чтобы их дети были меньше подвержены когнитивным искажениям.