«Наши дети в опасности». Психолог — о том, почему все вдруг испугались анимешников в клетчатых штанах

Мы уже рассказывали о сообществе ЧВК «Рёдан», резко ставшем популярным после драки подростков в торговом центре. Но почему дети вообще так любят объединяться в разные группы? Откуда у подростков желание примкнуть к определенному движению? Разбирается наш блогер, психолог Полина Дуб.
У каждого поколения появляется своя страшилка про «неуправляемую молодежь»: скейтеры, фанаты, анимешники, граффитчики, панки, готы, эмо, хиппи, битники, стиляги. Конечно, условному большинству родителей и в целом взрослых страшно хотелось бы, чтобы дети с отглаженными воротничками, двумя косичками и прямыми проборчиками, в чистой обуви, по дороге наигрывая на музыкальных инструментах и на ходу сдавая спортивные нормативы, в припрыжку перебегали из школ на секции, потом, забыв про смартфоны, читали Толстого и, почистив зубы и отгладив форму, ложились спать в 8 вечера. Но почему-то такие дети существуют только в советских фильмах про пионеров.
Каждому, кто скажет мне, что в его детстве только так и было, отвечу: «Вы недоговариваете». Это либо открытый обман, либо искусственно сконструированные воспоминания. Потому что в подростковом возрасте у каждого мальчишки с прямым пробором была тусовка на крыше вместо школы, курение из окна и побег в сельский магазин в летнем лагере, встреча рассвета с соседской девочкой, когда вместо тебя в кровати на всякий случай лежит чучело, и удар по лицу (нанесенный и/или полученный).
Как и у каждой девочки с косичками найдутся факты окрашивания косичек в нелегитимный цвет, переодеваний в подъезде, ночных приключений под прикрытием ночевки у подружки и долгожданных «родители на даче, приходи!». И пусть спустя много лет кажется, что это все было милым и романтичным и вообще-то занимало гораздо меньше времени, чем условные Толстой, скрипка и нормативы… хотя подождите!
Кто сказал, что в жизни детей-анимешников больше длинных челок и штанов в клетку, чем подготовки к ЕГЭ?
Конструирование идентичности подростка происходит в том числе с помощью идентификации себя с группой. То есть, чтобы взрослеющему человеку понять, кто он такой, ему надо стать частью некоего «мы», сопоставить себя с другими и спрашивать себя: «А я такой как он/она? Мне это важно или другое? Готов ли я и какой ценой отстаивать важное мне? Как я выстраиваю отношения?»
Предвосхищая возражения: нет, семьи, школы и «правильных» друзей (у каждого из которых, на самом деле, есть свои скелеты в шкафу) недостаточно. Как и недостаточно быть частью группы «лучшие ученики школы», «добропорядочная семья Петровых» или «надежды нашей ДЮСШОР». Молодому человеку необходимы взаимодействия «неконвенциональные» — сложнопрогнозируемые, с отличными от него людьми, вне привычных рамок — в которых он приобретает и оттачивает свои социальные навыки.
А еще взрослеющему человеку необходимо прощупать границы дозволенного, понять, что из того, что нельзя, действительно нельзя, и что за это будет. И нет, просто поверить взрослым на слово не получается. Не только потому, что обучение через опыт — единственное работающее, но, главным образом, потому что взрослые сами регулярно нарушают собственные правила. Изучение социальных ограничений в процессе — неотъемлемая часть социализации человека. И лучше уж подраться на фудкорте, будучи подростком, чем испытать на себе все последствия подобных действий уже во взрослом возрасте, когда общество уже не так высокомерно-снисходительно, а здоровье уже не позволяет пропустить ответный удар.
В 2010-е годы российские исследователи субкультур отмечали почти полное отсутствие предмета исследования. То есть, собственными глазами или, по крайней мере, на фотографиях многие видели неформалов и люберов 80-х; реперов, металлистов и рейверов начала 90-х; панков и скинов конца 90-х — начала 00-х. Можно вспомнить готов, эмо, фанатов, вольных путешественников 00-х (все — где-то позже, где-то раньше), а что потом? Хипстеры? К-рор? Ну так, не тянут на субкультуру. Что же это? Неужели пропали? Ушли в сеть и там скрылись даже от ровесников? «Ну нет же» — скажут активные пользователи интернета. А как же зацеперы? Синий кит? АУЕ (запрещенная в РФ экстремистская организация) в конце концов? Как же вы, исследователи, не заметили? А дело в том, что нет и не было до изобретения прессой таких субкультур.
В определенной степени субкультуры появляются в ответ на пустоту, на отсутствие адекватного ответа на запросы общества
На давление «официальной» культуры, когда она начинает создаваться искусственно, не являясь естественным ответом общества на собственные потребности. И пустота эта торчит белыми нитками, пугая «взрослых» отсутствием информации о том, что происходит в мире «молодежи», питая естественную тревожность условных «родителей». «Наши дети в опасности» — один из старейших способов отвлечения общественного внимания. Играя на этой тревожности и подспудно чувствуя фальшь информационного поля без проявлений молодости, СМИ хватаются за любую информацию о «мире молодых» или даже конструируют ее, перетягивая на себя внимание.
С ЧВК «Редан» это сработало также: СМИ полили восходящее семечко чистого молодежного объединения. Сами дети признаются, что идеологии у них никакой нет. Культуре аниме добрых 60 лет, субкультуре аниме в России — более 30-ти. Кто-то и впрямь полагает, что спустя столько лет вдруг вылупились из любителей японской анимации страшные агрессоры, которые «ненавидят мигрантов и околофутбольщиков»? Давайте будем честными, эти не самые социальные, не самые популярные среди ровесников, не самые «форматные» ребята среди нас много лет. И им нужны ответы, которые не может дать ни государство, ни родители. Эту пустоту не удастся заткнуть ни патриотическим воспитанием, ни рейдами по торговым центрам, ни пропагандой, ни гордым молчанием и запретом на обсуждение.
И что же со всем этим делать? Страх родителя за ребенка заложен природой. Как ни крути, как ни запирай замки и ни отбирай телефоны, хранить ребенка в хрустальной шкатулке за семью замками на верхушке башни, охраняемой драконом, не получится. Если вам страшно, поговорите с вашим подростком. А потом поговорите еще. Проделывайте этот трюк регулярно. Скорее всего, то, что он делает, сбежав из хрустальной шкатулки, когда вы думаете, что он спит, не страшнее паука и цифры 4 на толстовке подростка-анимешника в торговом центре, запуганного ЕГЭ и нестабильностью мира, в который его родили.
Вы находитесь в разделе «Блоги». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Иллюстрация: кадр из мультсериала «Hunter x Hunter»













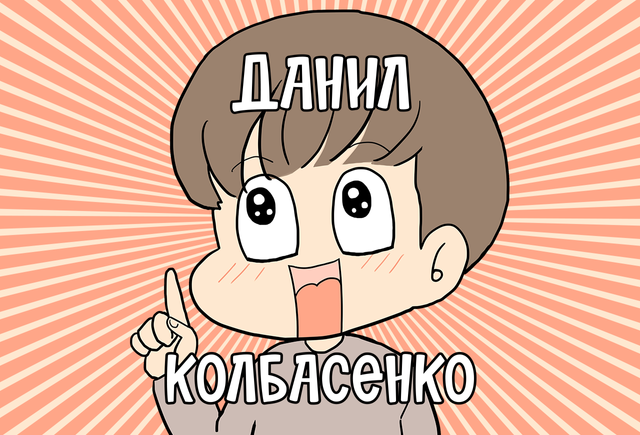


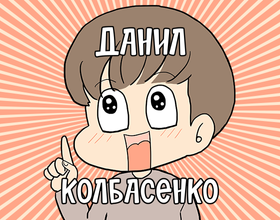

Не был ли здесь взрослый провокатор, который спровоцировал часть подростков на поступки, чтобы громить всю организацию?
Что делать родителям, если их детей спровоцируют? Как обучать детей безопасности при провокациях?
Я придерживаюсь позиции, что юные люди — такие же люди, а не какие-то неполноценные взрослые. Вот что делать взрослым, если их спровоцируют? Разве что, очень четко для себя понимать, что такое хорошо, что такое плохо, что допустимо, при каких обстоятельтвах и каковы риски. Для формирования этого понимания нужен адекватный с детства диалог со значимым взрослым, критическое мышление и жизненный опыт. Последний, увы — сын ошибок трудных.
Показываю одну из них.
Драка была в Москве, а задерживать стали и в других городах. Именно такое ощущение у меня осталось от прочтения информации, которая прошла по интернету.
Подростка задержали и применили к нему психологическое воздействие. Не займется ли он самооговором? Не даст ли сомнительные показания против других?
Следователь будет искать провокаторов или будет искать организаторов. Если там были провокаторы, то подростки стали их жертвами. А если найдут организаторов, то подростки — это члены организованной преступной группы.
Я применил слово самооговор, так как подросток и даже его родители не поймут в самом начале, что дело пахнет керосином. Они могут не понять, что их ребенка из жертвы могут превратить в участника.
PS
Здесь я не пишу о «ЧВК Рёдан», так как не знаком с деталями, хотя эти опасения у меня возникли в ходе прочтения информации о них. Родители должны знать про опасности тех тусовок, которые существуют даже в безобидных сообществах.
Благодарна вам, юрий, за то, что в нашем диалоге сейчас акцент моего текста восстанавливается.
Страшно, с какой силой и скоростью пошла облава на детей. Более 500 подростков задержали.
Что же касается нормальных отношений в семье — то в моем детстве их не было ни в моей семье, ни в семье моих друзей по двору, где папа бил маму, а у мамы по голове текла кровь, ни в телевизоре, где вполне на центральных каналах шутили о том, что новый русский забирает из школы сына из 11 класса, жену из 10, любовницу из 9 и все сажает в один джип. Насилия, унылого, повседневного, не бросающегося в глаза, в реальной жизни в конце девяностых и начале нулевых было гораздо больше, чем в любом аниме.
Если есть, почитайте и опубликуйте их пожалуйста, сдаётся мне чтения японских комиксов в них не вошли.
Кто- то и в «Незнайке» читая, видит одну пошлятину.
берега, господа, очерчивайте. И про наркотики напомню. Если раньше был героин, кокс, винт, какие то танцпольные таблетки, были шансы, употребив их один-два раза, забыть этот опыт, а если люди садились на систему, то жили на ней десятилетия и, если не передоз, многие приходили все же к тому дну, после которого шли в реабилитацию. Сейчас соли. привыкание с 1 раза, смерть или полное сумашедствие через год-полтора. Никаких тебе надежд. Плюс реабилитационные центры. их тупо закрывают, многие из них не проходят проверки противопожарной безопасности и просто не имеют денег заплатить прокурорам взятку. А государственных нет! Государству не нужны наркоманы. При том, что зависимость, это часто генетическая предрасположенность. Т е зависимых ооочень много.