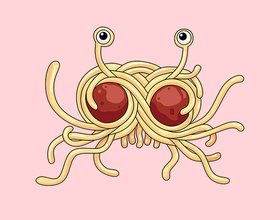Антон Нелихов — писатель, просветитель, автор нескольких книг по естественной истории и традиционной культуре. В эфире «Радиошколы» Надя Папудогло поговорила с ним о внезапно пробудившемся интересе читательской аудитории к русскому фольклору.
В последнее время сильно вырос интерес к «традиционной культуре». Берем это определение в кавычки, потому что, мне кажется, каждый понимает его немного по-своему. Это какая-то декоративная история? В духе того, что никто не знает, зачем были нужны кокошники в свое время, но все говорят о них. Как вы со своей точки зрения это видите? Откуда взялся этот интерес?
Это поиск идеи для самоопределения, ответа на вопрос «Кто мы такие?». Вот были в советское время у нас социализм, коммунизм, всё было более-менее понятно. А потом всё рухнуло, был этот дикий капитализм, культ золотого тельца, и теперь мы устроили как бы очередной поиск самих себя.
Идет поиск корней, поэтому вырос интерес и к язычеству, о котором никто практически ничего не знает. Скорее всего, там толком ничего и не было, потому что культ верховных богов на Руси, вероятно, и не сложился.
У вас про разных язычников и колдунов есть целый канал, я его читаю с удовольствием. Скажите, а что сейчас лучше всего заходит аудитории? Наверное, какие-то дешифровки сказок?
Мне не интересно дешифровать сказки, я смотрю на них с другой точки зрения. Дело в том, что мы, люди письменной культуры, воспринимаем народные сказки в написанном варианте. Мы знаем сказку про Колобка, и нам кажется, что ее так всегда и рассказывали. А ее же каждый сказочник пересказывал немножко по-своему. У того же «Колобка» есть миллион вариантов.
Например, один из моих любимых — это когда дед пошел искать Колобка и расспрашивал в лесу зверей. Ему сказали, что его лиса съела. Он пошел, значит, поймал лису, вскрыл ей пузо, достал Колобка и попытался его оживить. Не получилось. Тогда он помыл его, и вместе с бабкой они его съели. А есть варианты, где Колобок благополучно от всех убегает: спел песенку лисе и покатился дальше. Существует какое-то бесконечное количество вариантов, и мне хочется показать это разнообразие.
Та же «Репка», например. Там такие персонажи приходят: лавкрафтовские семенок, восьменок, девятенок — такая фантасмагория. Очень прикольно, очень замечательно. Когда сказки пытаются дешифровать, ищут какие-то коды и генотипы, придумывают интерпретации, их часто рассматривают как застывшие. Грубо говоря, есть каноническая версия «Колобка» и «Репки», давайте их рассмотрим. Но мне интересно показать всё безумное разнообразие. И это заходит, это очень людям нравится.
И тогда философский вопрос: а почему закрепляется только одна версия «Колобка»? Как появляется этот канонический «Колобок», которого все мы однажды читаем детям?
С разными сказками бывает по-разному, но в основном за это нужно благодарить Ушинского. Он взял классический афанасьевский свод сказок — вот этот трехтомник, который никто не читает, — и переделал. В «Репке» собаку-сучку превратил в Жучку, облагородил. Какие-то сказки сделал более-менее понятными (ну кроме «Курочки Рябы»). И главное — привнес в сказки мораль. В «Репке» мы рассказываем детям, что усилиями всего мира мы достаем репку. Но есть версии «Репки», где репку не вытаскивают. Где бабушка умирает, попытавшись помочь дедушке, потому что она очень старенькая. А в конце сказки дедушка ищет, кто бы ее оплакал, и зовет лису, но и это плохо кончается.
И вот следующий вытекающий из этого вопрос: а изначально в сказках вообще есть мораль?
В каких-то есть, но в основном нет. Сказки — не носитель морали, это скорее развлечение для долгих зимних дней и вечеров, когда делать особо нечего. В деревне год делился на две части. Лето, когда нужно заниматься тяжелыми полевыми работами, а спать некогда, и зима, когда работы обычно нет. И люди, которые не уходили на отхожие промыслы, спали по 12 часов, потому что было скучно — что еще поделать? Рассказывали сказки.
Это, кстати, поразительная история, о которой совершенно не рассказывают в школе детям. У них нет понимания, что проживание времени тогда было совершенно другим. Им кажется, что все вставали в 8 и шли работать, а потом работали до шести.
Мне тут недавно попалась в одном архиве замечательная ремарка, что в нашей деревне мужики встают в 4 часа утра, а ленивые — в 5.
У нас в «Меле» есть классический формат: если хочешь, чтобы текст прочитали много людей, дешифруй сказку. «Истинный смысл Колобка», «Кем на самом деле были гуси-лебеди» и вот это всё. Но у меня нет ответа на вопрос, почему же это так интересно людям.
Мне кажется, тут работает механизм, когда привычная штука, на которую ты не обращаешь внимания, потому что тебе она кажется пресной и неинтересной, вдруг раз — и открывается совершенно по-другому. Начинает блестеть кучей граней, которые ты не замечал. Превращение обыденного во что-то необычное всегда очень нравится людям.
В последнее время люди всё чаще говорят, что сказки морально устарели. Зачем вообще это старье читать, если есть куча прекрасной детской литературы?
А я согласен с этим мнением. Мне кажется, сказки представляют прежде всего историческую ценность. Если читать современному ребенку натуральные сказки, не Ушинского, а Афанасьева, ему будет очень скучно. Вот это трехкратное повторение. Герой пришел к одной Бабе-яге, она его помыла, накормила, спать уложила. Пошел дальше, пришел ко второй Бабе-яге, то же самое произошло. И так три раза. Вот он ходит, бродит, меч-кладенец ему достали, какой-нибудь клубок дали. Это очень скучно, в этом нет интриги.
Сказки вырастают из блоков, которые по-разному сочетаются. Пришел наш герой к этим трем Ягам, потом пошел в Тридевятое царство убивать Кощея или Змея. У первого змея три головы, он его победил, идет дальше. У следующего змея шесть голов. Он его побеждает, идет дальше. Каждая голова — это пять минут пересказа. А занять сказкой надо весь вечер.
Есть безумно смешные, безумно интересные варианты сказок, но это зависит не от сюжета, который сам по себе очень скучный, там нет интриги. Но вот когда сказочник своим языком начинает пластично обыгрывать текст, это очень здорово. Ты сразу видишь эту картинку, и всё работает. Большинство сказок — скукотень. Так что я абсолютно согласен с тем, что современным детям нужны современные сказки, но не обязательно про компьютер.
Я тут вспомнила, что, когда мой сын был совсем маленький и не спал, я рассказывала ему «Репку». Потому что «Репку» можно бесконечно наслаивать персонажами, которые ее тянут. Но к сказкам у родителей есть еще один вопрос: почему в них всегда есть какая-то жестокость, почему в них почти всегда происходит плохое?
Дело в том, что мы воспринимаем сказки как что-то детское. Конечно, есть чисто детские сказки: те же персонажи в «Репке» действительно нужны для того, чтобы ребенок заснул. Но мы забываем, сколько есть, например, совсем не веселых колыбельных со словами вроде «скоро ты умрешь». Их, конечно, пели в основном детишкам совсем маленьким, монотонный голос позволял им заснуть скорее. Я думаю, что они не воспринимались тогда какими-то жестокими.
Мне кажется, что это в наше сверхгуманистичное время даже самые невинные детали воспринимаются как что-то страшное. Хотя на самом деле в сказках вся жесть — это такие театральные декорации: там кишки висят и сушатся, тут чан с кровью. Ну попробуйте нацедить чан с кровью, сколько там человек нужно, 500? Это невозможно, конечно, это гиперболизация.
Мне сейчас даже на ум не приходят какие-то действительно жестокие сюжеты. Важно понимать, что про кишки и кровь детям никто не рассказывал: их пересказывали мужики мужикам или бабушка взрослым девушкам, когда они сидели, пряли и просто точили лясы.
Полную запись интервью с Антоном Нелиховым слушайте здесь. Разговор прошел в эфире «Радиошколы» — проекта «Мела» и радиостанции «Говорит Москва» о проблемах образования и воспитания. Гости студии — педагоги, психологи и другие эксперты. Программа выходит по воскресеньям в 16:00 на радио «Говорит Москва».
Обложка: © Francey, Beyger / Shutterstock / Fotodom

КУЛЬТУРА
Золушка — истеричка, а ее приключения во дворце — фантазия. Психотерапевты — о самой известной сказке

ИСТОРИИ
Он победил дракона. Как жил и работал Евгений Шварц — писатель, сочинявший сказки, даже когда волшебство вышло из моды

ДО ШКОЛЫ
Как выбрать частный детский сад: 6 критериев, о которых вы могли забыть