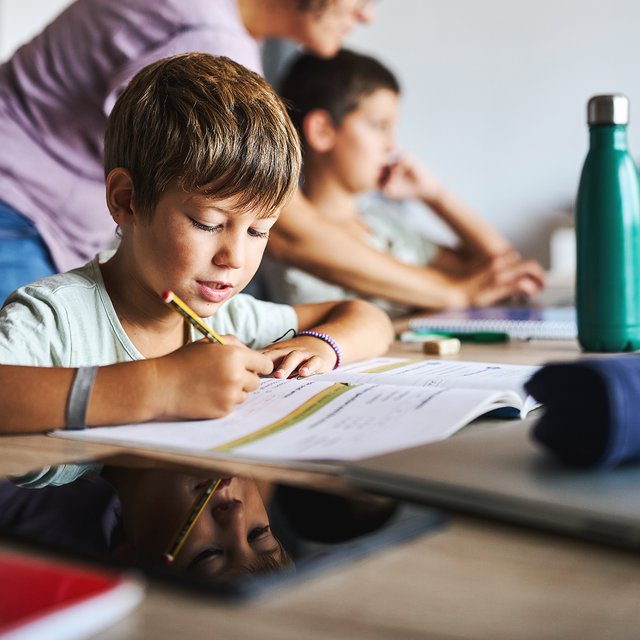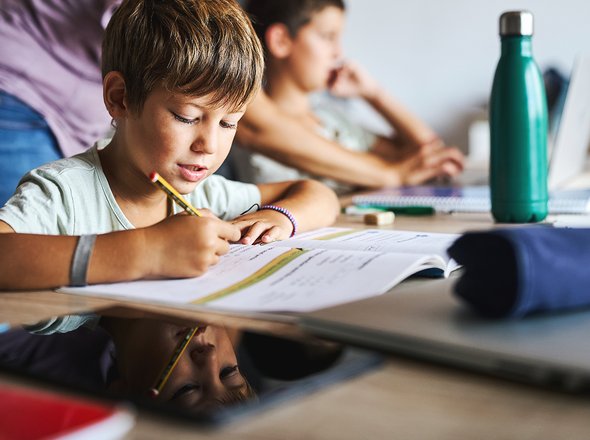Учитель истории Дмитрий Б. второй год работает в школе и в третий раз сдает ЕГЭ по истории. Надежда Тега поговорила с Дмитрием о том, что помогает ему справляться с дисциплиной на уроках с семиклассниками, и выяснила, что такое плинфа, о которой спрашивают на экзамене.
«Не понимаю, зачем выпускникам обязательно сдавать ЕГЭ по истории»
1 Сентября я объявил семиклашкам новости:
— Возможно, я вас огорчу, но обществознание у вас будет только с девятого класса. Зато мы будем три раза в неделю встречаться на истории.
— Нееет, блин!
Я лично видел отторжение в их глазах. В некоторых школах обществознание ведется с шестого класса, и теперь нынешним семиклашкам придется о нем на два года забыть. Всем нравится этот предмет, потому что он жизненный, во многом прикладной. Даже ничего не зная, не читая учебник, можно с интересом послушать лекцию на уроке, вникнуть. Обществознание и преподавать приятнее, особенно если приколов добавить.
Допустим, мы проходили виды правонарушений, и некоторые никак не могли запомнить административное — видимо, слово сложное. А потом произошла такая ситуация: едем с детьми на трамвае (нам домой по пути), и я забываю приложить карточку к терминалу. Заходят контролеры, меня штрафуют, и я спрашиваю детей: «Вот это какое правонарушение сейчас было? Правильно, административное». Наверное, они до конца жизни эту тему уяснили. Для закрепления материала я потом этот же случай еще и в презентациях использовал.
Не знаю, как будущие девятиклассники будут сдавать ОГЭ по обществознанию — вызубрить всё за год очень и очень сложно
Когда я спрашивал коллег, зачем провели все эти реформы, у них был один ответ: «Выработать патриотичность». Мне же кажется, что человека бессмысленно заставлять делать то, что ему не нравится. Я, например, не любил геометрию в школе, и теперь доказательства теорем мне не нужны. Лишь бы мебель в квартире ровно собрать.
Точно так же я не понимаю, зачем абитуриентам всех гуманитарных специальностей обязательно сдавать ЕГЭ по истории. Выпускник и без экзаменов усвоит весь базовый минимум: когда крестили Русь, кто последний из Романовых. Я так говорю не потому, что я плохой учитель. Азы знать нужно, но вот зачем, например, человеку из медиасферы детально разбираться во всей школьной программе, я не понимаю.
«Чтобы успешно сдать экзамен, достаточно знать всего понемножку»
Я сам только что вышел с ЕГЭ по истории для педагогов. Экзамен точно такой же, как и у школьников, только мы еще проверяем несколько работ своих коллег. По результатам определяется наш уровень: базовый, высокий или экспертный. В этом году я устроился в школу с высоким рейтингом, и мне пришлось пересдавать ЕГЭ, чтобы поднять свой уровень с базового. Экспертный уровень получают те, кому не хватило нервотрепки на протяжении девяти месяцев, — они станут экспертами ЕГЭ и будут оценивать работы школьников летом.
По ощущениям, экзамен стал легче. Проверяется чисто знание фактов. Знаешь — молодец, не знаешь — не отвертишься. Правда, не все со мной согласны. Кто-то говорит, что ЕГЭ, наоборот, усложнили, потому что теперь надо сравнивать разные периоды, знать весь курс истории. Якобы раньше можно было хорошо разбираться только в одной теме и получать за нее много баллов. Но я никогда не забуду, как мой друг писал историческое эссе, когда мы выпускались из школы. Ему попались три темы: две отстойные, а третья — про Владимира Путина. Тогда его жизнь и пошла под откос.
Он подумал: «Ну ладно, я же живу в России, должен что-то знать». В итоге за сочинение про Путина ему поставили ноль баллов
Сейчас структура стала сильно проще. Вторая часть помещается буквально на двух листочках: никаких исторических эссе больше нет. Не надо долго что-то обдумывать и сочинять, как бы красиво всё написать. Чтобы успешно сдать экзамен, достаточно знать всего понемножку.
Сегодня в моем варианте все задания были вполне выполнимыми. Подвело только одно — девятнадцатое. В нем дается исторический термин — нужно написать его определение и какой-нибудь факт, с ним связанный. Обычно там вполне нормальные слова — например, полюдье. Даже чисто по звучанию можно догадаться, что это значит: кто-то катается по людям, похоже на сбор дани. Мне же сегодня попалось слово плинфа. Честно, не знал этого термина. Вот какие ассоциации тут могут возникнуть? Может, какой-то музыкальный инструмент? Арфа, плинфа — почти одно и то же. Ну я так и записал. Завтра обязательно ко всем историкам в школе подойду и спрошу, что значит плинфа. Я очень удивлюсь, если хоть кто-то ответит.
Даже в моих книжечках-шпаргалках для ЕГЭ нет этого слова. Я только в интернете нашел, что плинфа — это кирпич, из которого строили здания в Древней Руси.
Какой, блин, кирпич? И кто вообще в жизни мог бы подумать, что на ЕГЭ какая-то плинфа попадется?
Но я всё равно не считаю ЕГЭ по истории очень сложным. Ну не справится школьник с одним заданием, ничего страшного в его жизни не произойдет. Он всего лишь потеряет два вторичных балла, никто не умрет, мир не рухнет. Думаю, что я набрал около 85 баллов. По крайней мере, считаю, я их заслуживаю. В этот раз я хотя бы понимал, о чем шла речь в заданиях. За год с лишним работы в школе что-то да запомнил, что-то в голове отложилось.
В прошлый раз я сдавал ЕГЭ по истории год назад, когда только стал учителем. У меня были нулевые знания, и я получил всего 68 баллов — результат среднестатистического троечника. Просто школьная программа действительно довольно обширная, очень много надо знать. К тому же я заболел тогда, и мне прям совсем не до экзамена было. Я очень нервничал, в первый год работы всё казалось ужасно страшным: педсоветы, уроки, злые дядьки и тетки кругом, а потом еще и этот экзамен. Я сидел прям до талого. Сегодня ворвался в аудиторию уверенно, как к себе домой, спокойно всё написал и закончил за час до конца.

«Четыре года я делал сайты и был далек от истории»
В университете изучение школьной программы немножко прошло мимо меня. Я же не знал, что мне это в жизни как-то пригодится. В педе у нас была практика — проведение уроков. Помню, как преподаватель говорит:
— Поднимите руку те…
Я, не успевая дослушать, уже тяну руку.
— Поднимите руку те, кто не собирается работать по профессии.
Я тяну руку еще увереннее. Будто не я спустя полгода буду стоять с указкой в классе.
Направление «Политика и история», как и университет, я выбрал просто так. Сам я вообще из деревни: мои кругозор, мировоззрение были размером с щелочку. Я даже не знал, какие профессии существуют. Сижу, значит, в 11-м классе и думаю: «Так, нужно кем-то становиться». Кем — непонятно. Можно полицейским, потому что мой брат полицейский. А можно учителем, потому что мне понравилось быть учителем на дне самоуправления (да, они не везде бесполезные).
С полицией не сложилось (и слава богу!), поэтому я поступил на педагога
Конечно, быть учителем по-настоящему я не собирался и продолжал искать себя и надеялся что-то поменять в своей жизни. Например, как мой друг — очень творческий человек, который вдохновил меня делать сайты. Четыре года я делал сайты и был далек от истории. Но хочешь не хочешь — краем уха что-то на парах услышишь. Я не был двоечником. Скорее наоборот, я был отличником — закрывал всё автоматами. Но я больше погружался в темы, которые были мне интересны, в основном XX век. Мой диплом, кстати, выделили как лучший на потоке.
А потом мне написал друг:
— Нам учитель в школу нужен. Хочешь попробовать?
— Да я не собирался… Напиши лучше вот тому. Он вроде хотел.
— Нет, давай именно ты попробуешь.
Ну ладно, раз настаивают, значит, судьба. Меня взяли, и пришлось вместе с учениками узнавать весь материал. Понятное дело, я опережал их на несколько шагов. К тому моменту школьная программа совсем из моей головы улетучилась, и я каждый вечер что-то изучал, собирал интересные факты. В общем, школьники бы точно не заподозрили, что в истории я ноль.
«Листаем календарь до октября 1582 года. Что мы видим?»
Открываю учебник и понимаю, что он очень сложно написан. Каждый параграф минимум на 10 страниц, а ведь это же надо еще прочитать и хоть что-то запомнить. Ко всему прочему история — далеко не тот предмет, за который ученик возьмется в первую очередь. Не бывает такого, что школьник приходит домой и думает: «Так, сначала история, ну а потом уже русский, математика и всё остальное». Я сразу решил, что дети должны по максимуму осваивать материал на уроках, а для этого надо преподносить его как можно проще.
Мне не нужно, чтобы они знали все даты. Не нужно, чтобы они были Ломоносовыми. Достаточно, чтобы они примерно разбирались в хронологии, общем историческом процессе. Допустим, черчу отрезок: с одной стороны — рождение Христа, с другой — наши дни. Спрашиваю: «Ленин когда жил?» Если школьник тычет куда-то ближе к современности, в XX век, а не рядом с Иисусом Христом, всё нормально.
— Все достаем телефоны и открываем календарь. Листаем до октября 1582 года. Что мы видим?
— Тут сразу после четвертого числа пятнадцатое.
— Верно. Почему украли 11 дней календаря? Не знаете? А мы это проходили!
— Ааа, проходили?!
Дети потихоньку догадываются: в 1582 году папа римский сделал пересчет календаря и перевел его с юлианского на григорианский. И произошло это примерно в одно время с Реформацией, которую мы проходим. Мне кажется, с помощью таких трюков у детей появляется больше ассоциаций и материал легче усваивается.
А еще можно рассказать о повседневной жизни людей разных эпох, показать их быт, моду.
— Как думаете, почему у всех женщин на средневековых портретах такая белая кожа?
— Они мертвые?
— Нет, богатые. Они мазались белилами, потому что загар считался признаком бедности. Загорелыми были трудяги, которые пахали в поле под солнцем.
Работать только с учебником скучно. Мы открываем его на уроке, только когда надо посмотреть какую-то историческую вставку или картинку. Всё внимание в основном должно быть на мне, презентациях, тетрадке, играх. В детстве я любил настольные игры с бумажными картами: раскрываешь, кидаешь кубик и ходишь по секторам.
Я делаю такие же мини-игры для интерактивной доски: дети соревнуются, шагая по секторам и отвечая на исторические вопросы
Так даже двойки получать веселее. Представьте: вас спрашивают, вы поднимаетесь с места, ничего не знаете и униженно садитесь обратно с двойкой — скучно и обидно. Моргнуть не успели, как настроение испорчено, а учитель бесит. И совсем другое дело, когда вы хотя бы прошлись до доски и поиграли, чтобы получить эту двойку. Сразу всё по-другому воспринимается.
И вот идет открытый урок. Спрашиваю, что такое Реформация и как появился протестантизм. Тут же поднимается лес рук — с первой до последней парты, включая отпетых двоечников. Педагогический состав в шоке, потому что я веду уроки у математической вертикали, у лингвистов — в общем, у классов, которым история не особо и нужна. В итоге мои способы работают. Дети действительно многое запоминают, если объяснять просто и доступно, на их языке. Правда, меня немного поругали за слово «мужик» на уроке. Я рассказывал про Мартина Лютера. Согласен, зря я так про него, случайно вырвалось.

«После семи уроков я превращаюсь в Пашиняна»
В этом году я веду историю только у седьмых классов. Сразу у девяти седьмых классов. Происходит это примерно так: захожу в кабинет, за спиной крики, оры, кто-то кого-то толкает, в меня летит ребенок и во всё горло горланит отборное матерное слово. Я разворачиваюсь и немею от шока. Не знаю, что сказать, и не могу поверить, что такое вообще бывает. В итоге на ум приходит только одна фраза: «Останься после урока. Поговорим». А потом весь урок сижу и думаю, о чем же с ним говорить и что с ним делать. Тем временем уже другой парень начинает материться, сидя прямо на второй парте:
— Ты думаешь, я тебя не услышал сейчас?
— А я чё? А чё я сделал-то?
Каждые несколько секунд приходится прерываться: «Пожалуйста, потише!» Но мое «пожалуйста, потише» слышно всё меньше — его заглушает гул класса. Приходится стучать по столу, рявкать, орать. А я кричать вообще не люблю. У меня есть заряд выносливости, и с каждым криком он убавляется. Кто-то всё равно просто откровенно страдает фигней: уже и так, и сяк сел, извертелся, осталось только ноги на парту закинуть. Казалось бы, вот наконец тянется рука.
— Да, что ты хотел спросить?
— Слушайте, а вот СССР в 1933 году…
— И какое отношение это имеет к нашей теме — Реформации в Англии?
Тут начинают кричать уже девочки — парни чем-то в них кидаются. И это не похоже на безобидное дерганье за косички, а выглядит агрессивно. И среди всего этого хаоса сидит всего одна спокойная, вдумчивая девочка. Она не просто сидит, она сияет — лучик в темноте. Ручка на ручке, всё внимательно слушает. Стоит что-то спросить — тут же ответит. Конечно, в таких условиях у любого учителя появятся любимчики.
Когда звенит звонок, понимаю, что надо поговорить с тем матерщинником, а разговаривать с ним и не хочется — так задело его неуважение. Выдавливаю буквально пару ласковых: «Тыры-пыры, передам классному руководителю», на что ему, конечно, абсолютно плевать. В итоге после семи уроков я превращаюсь в Пашиняна, премьер-министра Армении. Тоже сижу, пялюсь в одну точку, слушаю депрессивную русскую музыку и грущу.
Короче, я чокнулся. И поднял вопрос о дисциплине в запрещенной соцсети: «У меня девять седьмых классов. Что делать?» Во-первых, мне сказали, что методически неправильно давать учителю всего одну параллель — это вредно и для психики, и для кругозора педагога. При этом таких, как я, оказалась еще половина этой запрещенной соцсети. Во-вторых, советов я получил очень много и очень разных: начиная от «да бить их всех надо» и заканчивая новомодными методиками. В итоге подействовал только один — тот, который я почувствовал душой. Самый простой и очевидный, но никто мне его не написал.

«Я адекватный и молодежный, а не злая училка»
Когда детей 30 человек, они всесильны, против них нельзя выстоять. Поэтому я снова оставляю хулиганов наедине после уроков, но на этот раз говорю:
— Я не собираюсь ругать тебя ни за оценки, ни за мат, ни за что-то еще. Почему ты так себя ведешь?
— Я не люблю историю, мне скучно.
— Мне не так важно, чтобы ты хорошо учился. Мне важно, чтобы ты относился ко мне по-человечески, как и я к тебе. Может, я как-то насолил тебе и не заметил?
— Ну вообще да. Вы сильно разозлились в начале года и всех нас отругали, хотя я был ни при чем.
— Понял, виноват. Извини, пожалуйста.
Мой подход заключается в том, чтобы ребенок больше узнал меня как личность. Понял, что я не машина, которую интересуют только даты и термины. Да, бывают учителя, которые обижены на эту жизнь, которые уже ненавидит свою работу. С такими останешься один на один после уроков — они наорут и скажут: «Вызываю родителей». Я же стараюсь вывести ребенка на искреннее общение, сделать так, чтобы мы друг друга по-настоящему услышали и поняли. Возможно, написать жалобу классному руководителю, родителям гораздо легче: «Ваш сыночек-ангелочек ведет себя плохо». Но я лучше потрачу чуть больше времени и самостоятельно разрулю проблему.
Когда дети узнают меня получше и понимают, что не такой уж я и ужасный, они начинают адекватно себя вести. Матом не ругаются, конспектики пишут и отвечают на уроках. Какой-то сдвиг есть. Айсберг тронулся.
Мне очень не хочется, чтобы дети шли на историю с мыслями: «Буэ, история… Сейчас нам что-то будет». Я хочу, чтобы они все скакали ко мне на историю, подпрыгивая от счастья.
Я верю, что школьник будет с удовольствием ходить на уроки, изучать предмет, если ему нравится преподаватель
Не зря говорят, что школа — это второй дом. Предположим, сын жестко играет в комп и его на этом свете больше вообще ничего не интересует. Родители, разумеется, целыми днями его пилят: «Ты такой-сякой, ничего не делаешь, хоть бы на улицу вышел, свежим воздухом подышал». В итоге никто особого восторга от этого процесса не получает. Все ругаются, мучаются, ситуация не меняется. А в другой семье сын играет в комп, но отец подходит и спрашивает: «Во что играешь? А как это у тебя получается?» Сын сначала не может оправиться от шока: «Ни фига! Батя спросил, во что я играю!», а потом волей-неволей когда-нибудь и сам точно так же говорит отцу: «А ты что читаешь?» Какой-то диалог завяжется, появится связь, взаимный интерес.
— А у вас есть домашнее животное?
— Мне бы себя прокормить…
— А у меня есть черепаха. Вот, смотрите!
Пока что у меня нет «любимок», но есть «хорошики» — дети, которые интересуются мной, остаются после уроков, чтобы поболтать. У меня нет возможности разговаривать с каждым лично, как с хулиганами, поэтому при знакомстве с новыми классами я открываю презентацию «Интересные факты обо мне».
— Как вы думаете, правда ли, что я прыгал с парашютом?
— Да нееее.
— Это правда, — показываю фото на слайде.
— Да нууууу!
— Правда ли, что у меня есть видео, залетевшие на миллион просмотров?
— Не!
— А они есть!
Дети уходят с урока в полной уверенности, что я адекватный и молодежный, а не злая училка: «Класс, вот это у нас учитель крутой, блин, вообще».

«Буду первым учителем, набравшим на ЕГЭ по физкультуре сто баллов»
Мне очень нравится картина Михаила Нестерова «На Руси» («Душа народа»). Течет Волга, и вдоль ее берега идут люди совершенно всех возрастов, времен и слоев населения. Среди них полураздетые нищие, крестьяне, сестры милосердия, слепой солдат, священники в черных рясах, царь в золотом облачении, известные писатели — Лев Толстой, Федор Достоевский. И все они следуют за ребенком — обычным крестьянским мальчиком. Он идет вперед, где вроде и нет ничего, кроме Волги, но он идет к Богу и словно видит его.
На картине метафорически изображена фраза из Евангелия: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Все люди на полотне стремятся к Богу, кто-то из них даже держит икону Иисуса Христа, но все они так или иначе грешны. Единственный безгрешный человек — ребенок, потому что все мы рождаемся с чистой душой. И рождение — это замечательное, прекрасное событие.
Я верю, что у детей в умах нет ничего плохого. Они резвятся, играют, тянутся к познанию нашего мира, в то время как многие взрослые не хотят самореализовываться, что-то делать. Да, бывают трудные дети, бывают хулиганы, но в них нет настоящего зла, ко всем можно найти подход. И мы должны стараться быть похожими на детей. Мне нравится узнавать их и работать с ними.
Нет смысла приходить в школу чисто ради денег: отсидел с утра до вечера, вышел и всех возненавидел: «Чудовища! Испоганили весь день!»
Я успеваю и уроки отвести, и посмеяться, и с коллегами пообщаться, а потом еще на пары в магистратуру и в зал съездить. Дети берут пример с учителей, и я уже многих вдохновил заниматься спортом. Шучу, что готовлюсь к ЕГЭ по физкультуре. Буду первым учителем, набравшим по нему сто баллов.
Когда я устраивался на работу, директор сказала: «С вами, молодыми, легче договориться. Вы готовы к чему-то новому, хотите развиваться». Мне очень нравится, что сейчас во многих школах собираются целые компании молодых учителей. Помню, сижу в первый день, как серая мышка, и вдруг замечаю знакомое лицо: «Привет, ты меня не знаешь, но мы из одного университета». Пока мы болтаем, к нам подходит уже целая банда: «Мы здесь самые молодые, и мы должны держаться вместе».
Большое счастье — попасть в такой классный коллектив. Я называю нашу компанию «тикток-хаус»: я, математичка, физичка, русичка, биологичка и два англичанина. Мы снимаем тиктоки, переписываемся, гуляем, ужинаем, устраиваем школьные поездки. Например, на этой неделе мы были в Дагестане. А еще я планирую съездить с детьми в Кострому и Тулу — очень хочется посмотреть на оленей и сделать пряник.
Многие учителя говорят: «Блин, дети же меня забудут». Да ни фига! Я поддерживаю связь со своим прошлым выпуском, жду не дождусь встречи, запланированной на новогодние каникулы. На самом деле учителя даже не подозревают, как сильно влияют на своих учеников. Я постоянно слышу от родителей: «Спасибо вам большое за такие интересные домашки! Мой никогда не интересовался историей, а тут сидит, всё читает что-то». И некоторые дети уже хотят пойти по моим стопам — стать педагогами.
В моем районе есть дорога, на которой я когда-то поклялся никогда не винить себя за то, что бросил сайты и устроился в школу. Каждый раз я иду по ней, вспоминаю эту мысль и думаю, что иду на работу с удовольствием. Надеюсь, никакая семиклашка меня в один день не сломает, потому что сейчас мне кажется, что я нашел себя. И это очень круто.
Обложка: © Данил Найденов; Hung Chung Chih / Shutterstock / Fotodom

ШКОЛА
8 неудобных вопросов про ЕГЭ и ВПР — как на них ответил глава Рособрнадзора Анзор Музаев

ЕГЭ
Какие темы будут на итоговом сочинении 2025/2026 и секреты, как получить зачет по всем критериям. Список произведений для аргументации прилагается

ИСТОРИИ
Как сделать семейный альбом, который все будут пересматривать: 4 вдохновляющие истории