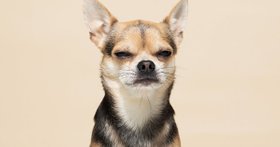В чем смысл реставрации старых храмов, икон или фресок, если проще построить и написать новые? Как реставраторам помогает инфракрасное излучение и чем детский взгляд на старину отличается от взрослого? Об этом в эфире «Радиошколы» рассказала преподаватель РГХПУ имени С. Г. Строганова, реставратор Александра Гребенщикова.
«Глобальная задача реставратора — избавить памятник от вранья»
Первыми русскими реставраторами можно назвать иконописцев-поддельщиков. В середине XVII века русская церковь раскололась на пореформенное православие проекта патриарха Никона и старообрядчество, сохранившее каноны дореформенной религии. В те годы сторонники Никона «редактировали» многие иконы, написанные до раскола, приводили их в соответствие с обновленными канонами официальной религии.
Старообрядцы молиться на такие иконы не хотели. И платили большие деньги за образа, которых изменения не коснулись. Ясное дело, на всех их хватить не могло. Так что появились мастера, которые на этом спросе хорошо зарабатывали — те самые иконописцы-поддельщики. Они писали иконы по старым канонам и продавали их старообрядцам под видом реликвий. Или, что для нас более важно, восстанавливали действительно старые иконы, исправленные никонианцами, и возвращали им изначальный вид. С этого ремесла, можно сказать, началось реставраторство.
Тогда же возникла глобальная задача реставратора — избавить памятник от вранья, придать ему вид, близкий к изначальному
В целом задача эта актуальна до сих пор. История же реставраторства как полноценной отрасли развивалась по нарастающей примерно с середины XIX века, когда в России появились первые реставраторские бригады, и где-то до 1980-х. К тому времени сложились общие стандарты, появились аппаратура, ресурсы, реставраторские организации и советы. Всё стало понятно и системно. Но тут бахнули девяностые.
На фоне кризиса рухнула система государственных заказов на реставрацию. Как результат — консолидированно и по общим стандартам тогда почти никто не работал. Реставраторы пошли реставрировать объекты по частным заказам и кто во что горазд.
Без помощи и регулирования многие из них не спасали утрачиваемые памятники, а вредили им
Тогда, возможно, и сложилось представление о реставраторах как о людях, которые сбивают со стен старую краску, пишут поверх новые фрески, белят всё, чистят щеткой, вставляют в проемы европейские стеклопакеты и сдают объект. Всё, что я сейчас описала, никакого отношения к реставрации не имеет.
«Студенты сами готовят растворы для фресок, учатся работать со скальпелем и микроскопом»
Набор задач у реставратора другой: найти, выявить, раскрыть и сохранить. Дело в том, что памятники, с которыми мы работаем — иконы, фрески, настенная масляная живопись, — зачастую покрыты многослойным рисунком, содержат несколько культурных слоев. У них сложная судьба.
Нижний слой — самый древний, первозданный. Те, что выше, — новее. Раньше реставрировать не умели — и поверх старой росписи просто наносили новую.
Современники действуют иначе. Смотрят на памятник, изучают его историю, определяют, когда, как и что с ним делали потомки. В этом помогают химические пробы материала, рентген, инфракрасное излучение, ультрафиолетовые съемки.
Просвечивая иконы и стены, мы фиксируем, что лежит под краской, которую мы видим невооруженным глазом
И определяем, что делать — добираться до изначального рисунка или работать с тем, что лежит сверху. Зачастую это решение принимается нескоро и коллегиально, по итогам долгих совещаний и споров — полноценного реставрационного консилиума — и согласований с властями. Художник-реставратор — сложное слово. Нередко студенты ломаются, пытаясь понять, что за ним стоит. И художник впереди реставратора в нашем случае лишь на словах. На деле наш приоритет — не писать и расписывать что-то свое, а восстанавливать, проявлять и сохранять авторскую работу.
Без художественных навыков в такой специальности, конечно, никуда. Например, студенты Строгановки, которые учатся на художников-реставраторов, первые три года из шести, отведенных под специалитет, занимаются по большей части рисунком, живописью, иконописью. Это всё как эстетическую базу им нужно задвинуть в угол сознания. А потом заняться своими руками и их ловкостью. Для этого студенты сами готовят растворы для фресок, учатся работать со скальпелем, микроскопом, другой профессиональной аппаратурой, учат химию — химии в реставраторском образовании очень много.
А дальше нужно искать баланс и пересечения между своим художественным и техническим началом
Вот, к примеру, тонировки. Это участки свежего материала, которые реставратор наносит на место, где культурный слой утрачен. Эти участки он расписывает, чтобы восстановить общий рисунок — с опорой на то, что изображено на сохранившихся вокруг образовавшейся пустоты участках. И тонировки эти нужно делать заметными — расписывать в оттенках, которые отличаются от тех, что когда-то выбрал автор. Чтобы историки, ученые и вообще все, кто подходит к отреставрированному памятнику, видели, какая его часть оригинальна, а какая восстановлена.
«Удивительно получилось, мы просто не могли себе позволить остановиться»
Конечно, любой реставратор мечтает о большом проекте. О церкви, которую он от начала до конца изучил и привел в первозданный вид. За пределами таких мечтаний наша профессия куда менее героическая. Ведь реставрации длятся десятилетиями, на быстрый и громкий успех рассчитывать сложно.
Возьмем, к примеру, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря в Пскове — памятник каменного зодчества, XII век. Работа над раскрытием самых ранних слоев его живописи и их реставрацией идет уже более 100 лет. Впервые красочные слои удаляли и обновляли здесь еще в XIX веке — занимался этим реставратор Николай Сафонов.
Последний проект реставрации (я сама участвовала в его реализации) был утвержден еще в 1990-х, а закончен только в 2021 году. Тридцать лет шла работа, но и за них мы не добрались полностью до росписей XII века. Нужны новые работы. И уже четыре года Псковский музей-заповедник ждет на них финансирование от Министерства культуры. Но денег всё нет.
Собор ждет, как и многие другие памятники культуры, требующие реставрации. Где-то ожидание обещает быть долгим, где-то мы даже не понимаем примерных сроков. Так что немалая часть работы реставраторов сейчас заключается не собственно в реставрации, а в консервации памятников. Чтобы они просто дожили до реставрации, если та с ними вообще произойдет.
У нас есть замечательные студенты, с которыми мы в таких целях организуем выезды в малые музеи. Каждый для этого сам покупает билеты, сам оплачивает гостиницу.
Как-то по приглашению коллеги из Петербурга мы на таких волонтерских началах и условиях приехали в один региональный музей. Он был в катастрофическом состоянии. Настолько, что в отделе хранения вместе со старинными иконами жили голуби. В таких условиях экспонаты просто не могли дожить до реставрации. В том музее мы провели 12 часов: закрылись в залах и укрепляли иконы. Думали, что поможем совсем чуть-чуть. В итоге за эти полсуток мы укрепили 18 огромных икон. Удивительно получилось, мы просто не могли себе позволить остановиться. Наши ребята, студенты, сидели с нами, запаслись терпением, чтобы спасти иконы, помогали там, где им разрешено. Вдохновляющий опыт.
«Следующий шаг — рассказывать о реставрации детям»
Еще три года назад студентам и людям без специального образования на реставрации делать было нечего. Потому что к работе с памятником, даже в качестве ассистента, безопаснее допускать только профессионалов.
Но вот за последние три года мы выработали схему и получили хороший опыт взаимодействия профессионалов с волонтерами. Которые очень помогли нам в реставрации храмов в Бежецке, городе в Тверской области.
В его окрестностях есть много храмов, где старинная живопись погибла из-за элементарного отсутствия в зданиях нормальной крыши. Из-за протечек и влажности штукатурка, красочный слой и хорошо сама по себе сохранившаяся живопись просто отвалились и остались лежать на полу. Чтобы спасти храм, нужно проводить не реставрацию, а полноценную археологическую выборку — искать фрагменты, сопоставлять их, заново наносить на стены и укреплять рассыпавшийся пазл.
Одни реставраторы проделать такую работу оперативно не могут, то есть без сотрудничества с волонтерами не обойтись. Поэтому мы научились взаимодействовать с ними, курировать их работу, брать за них ответственность. Разумеется, волонтеры всё еще не привлекаются к узкоспециальной работе — созданию тонировок, укреплению, раскрытию поздних слоев живописи. Но комплексные работы по консервации памятника без них уже не обходятся.
На этом фоне создается всё больше волонтерских организаций; жители сёл, где пустуют и требуют реставрации памятники архитектуры и живописи, организуют собственными силами фонды. Они появляются в дополнение к уже давно существующим и очень помогающим реставраторам волонтерским организациям — таким, например, как «Вереница» или «Общее дело».
Следующий шаг в помощь нам и культурному наследию — как можно больше и интереснее рассказывать о реставрации детям. У молодого поколения есть запал и большой потенциал, чтобы помочь нам в сохранении старой культуры. Когда рассказываешь о реставрации взрослым, нередко слышишь вопрос: «А зачем? Давайте просто собьем со стен всю старую живопись и распишем их заново». Так, мол, будет чище и экономнее.
Но, поверьте, ни один школьник такого сомнения мне не высказал. Ни у кого нет вопросов, зачем сохранять старую живопись. У ребят, даже у шестиклассников, например, будто бы есть по умолчанию правильная система отношения к этой проблеме. По умолчанию к старине они относятся бережно. Давайте это ценить в них и развивать.
Полную запись интервью с Александрой Гребенщиковой слушайте здесь. Разговор прошел в эфире «Радиошколы» — проекта «Мела» и радиостанции «Говорит Москва» о проблемах образования и воспитания. Гости студии — педагоги, психологи и другие эксперты. Программа выходит по воскресеньям в 13:00 на радио «Говорит Москва».
Фото: © Francesco Cantone / Shutterstock / Fotodom

ИНТЕРВЬЮ
«Чем меньше в городе заборов, тем безопаснее». Главный архитектор Москвы — о том, каким должен быть город для детей

ИНТЕРВЬЮ
«Благоустройство создало у жителей центра ощущение небезопасности»: социолог — о «Яме», спальных районах и Патриарших прудах

ДЕНЬГИ
Как все-таки приучить ребенка к чтению: 8 советов, которые мы проверили лично