«Извините за опоздание, можно войти?»: почему от этой фразы пора избавиться всем

Самое страшное в опоздании для школьника — момент, когда надо спросить у педагога: «Можно войти?» Сразу все взгляды оборачиваются на тебя, учитель выдерживает паузу, прежде чем дать ответ, а потом еще и отчитывает за опоздание, пока ты пробиваешься к своей парте. Наш блогер Георгий Куракин уверен, что всего этого можно избежать, просто разрешив детям молча входить и выходить из класса.
Я веду семинарское занятие. За неимением свободной аудитории занял лекционный зал — старое, построенное ещё при царе, помещение с отличной акустикой. Читать лекцию легко можно без микрофона, что радует. Но именно в такой акустике постоянные «можно-войти» и «можно-выйти» отвлекают и сбивают с толку.
Я вновь трачу полчаса занятия на то, чтобы объяснить, что здесь не нужно спрашивать разрешения выйти и войти. Выходить и входить надо тихо, никого не отвлекая. А еще говорю, что в университете спрашивать разрешения выйти и войти — это в принципе странно, «я не тюремный надзиратель, и у меня не Бутырки», как писал Михаил Булгаков. Напоминаю, что на научной конференции или рабочем совещании все тихо выходят и возвращаются. И здесь то же самое.
На то, чтобы приучить своих студентов входить и выходить тихо, у меня уходит примерно семестр. Дальше ко мне приходит новая группа. На колу мочало…
Уважаемые школьные учителя! Если вы это сейчас читаете, пожалуйста, не учите детей постоянно спрашивать «Можно выйти?» и «Можно войти?» Очень вас прошу! Научите их выходить и входить тихо, на цыпочках, проскальзывая на «галерку», чтобы никому не мешать. Потратьте лучше время на выработку и воспитание у них такого навыка. Потому что дальше они придут к нам, в университет, и этот навык им пригодится — как и в дальнейшей взрослой жизни.
А умение спрашивать «Можно выйти?» и «Можно войти?» точно не пригодится никому
Для меня очевидно, что школа должна готовить ребенка к тем социальным ситуациям, с которыми он столкнется далее, и заранее формировать у него правильные паттерны поведения. Вместо этого пришедшие ко мне студенты производят впечатление переживших что-то вроде психотравмы. Даже испытывая (извините!) желудочно-кишечные расстройства, некоторые из них не выбегут из комнаты, пока я не отреагирую на поднятую руку. Я затрудняюсь сказать, чем можно это назвать, кроме как мучением.
Несколько дней назад я написал краткий пост в нескольких социальных сетях, с тем же воззванием: какие могут быть в наше время «Можно войти?» и «Можно выйти?» Комментарии знакомых студентов и педагогов позволили составить представление, почему эта крайне нелогичная традиция все еще жива в наших школах.
Прежде всего, многим педагогам в школе так проще контролировать детей. В этом, как аргументировали мои собеседники, различие между школой и вузом — в школе учитель отвечает жизнь и здоровье ученика в течение урока, а в университете преподавателю (к счастью!) не нужно отвечать за уже взрослых людей. Жесткие правила входа-выхода — единственный способ контроля, доступный моим собеседникам из числа школьных педагогов. «Разные социальные ситуации — разные правила», — подытожила педагог с большим стажем, прокомментировавшая мой пост.
Но я вижу ошибку в этом выводе: по итогу мы получаем ученика, который не может подстраиваться под разные социальные ситуации. Замечаем мы только выдрессированность и натасканность на ситуацию полного контроля. Ни к чему хорошему в дальнейшей жизни это не приведет.
Опасения практикующих педагогов вскрывают другую проблему: сама планировка школ и штатное расписание должны быть составлены таким образом, чтобы коридоры и территория на время занятия не были «диким полем», где ребенок может оказаться вне поля зрения кого-то из взрослых. Кстати, в такой планировке «можно-выйти» не спасёт — выйдя за дверь под предлогом «хочу в туалет», ученик легко выбежит за территорию.
Мне случалось видеть школы, разумно спроектированные с этой точки зрения: у половины кабинетов стеклянные двери, многие открытые пространства приспособлены для проведения занятий, и в качестве последнего контрольного пункта — недремлющая охрана, знающая каждого ребенка в лицо. Чего работающему в такой школе химику бояться разрешить свободный выход, если за дверью подопечный неизбежно и невольно окажется в поле зрения историка и математика? А самые горячие любители блуждать еще и на психолога наткнутся, открывая новые возможности для коррекции. Есть только одно «но» — эти школы частные. Но к такому формату надо стремиться всем.
А вот про «Можно выйти?» давно пора забыть
Кроме того, привычка к жесткому контролю «по наследству» переходит ещё и в высшую школу. Когда я прошу студентов выходить бесшумно, они неизменно сообщают о других преподавателях, которые требуют выходить и входить только по разрешению. Об этом же писали многие комментаторы в соцсетях — от нынешних студентов до кандидатов педагогических наук — вспоминая своих преподавателей, требовавших «железной дисциплины». Вот это зачем, спрашивается? И что с этим делать?
Я в итоге выработал для себя решение: я говорю студентам, что у меня всегда можно выйти. И всегда можно войти. У меня не нужно спрашивать никаких разрешений. У меня не нужно ходить строем. Я не могу победить школьную уставщину. Но могу избавиться от нее хотя бы в своей аудитории.
В конце концов, «можно-выйти» — часть более глубокой и системной проблемы. Часть культуры доминирования и психологического насилия в системе образования. Но если хоть в одной аудитории потихоньку от нее избавляться, можно сделать и всю систему образования человечнее. Хотя бы немного. Считайте это теорией малых дел, если угодно.
Вы находитесь в разделе «Блоги». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Фото: Shutterstock / Fotodom

БЛОГИ
«Закрыла дверь на ключ». Как учителям реагировать на опоздания и можно ли не пустить на урок ребенка

УЧИТЕЛЯ
«Бывало, что на меня прилетало 3–4 жалобы в день». Монолог преподавателя вуза, которая ушла работать в детский сад

ХОББИ
8 неочевидных аниме, которые помогут понять подростков: про отношения, волшебство и котиков









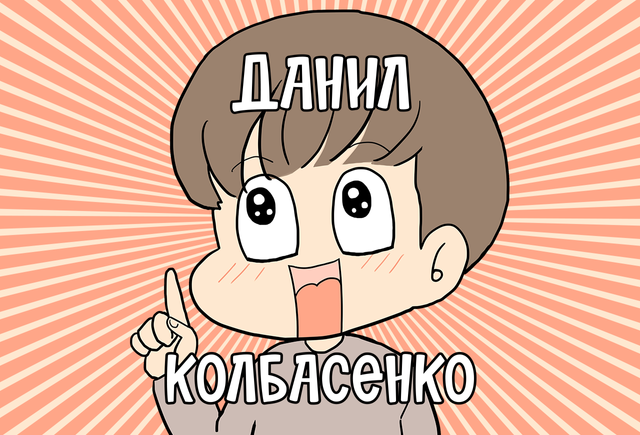
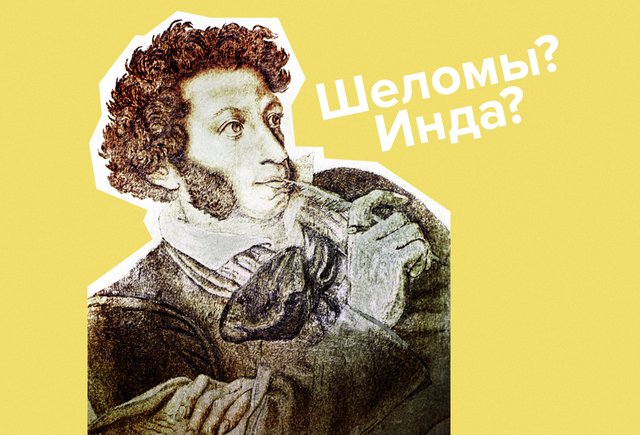

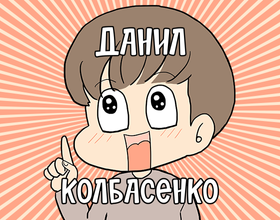
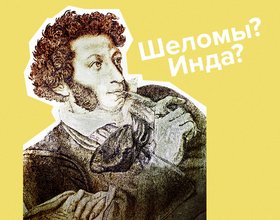


В действительности вы просто хотите немного насолить опоздавшим, вот и всё. Не будет человек, искренне желающий знать, знает ли ученик материал, и тем более желающий пробудить интерес к предмету, вот этим заниматься.
Муштра, дисциплина, страх, унижение достоинства, одна гребенка на всех- это пока всё еще важнее, чем личность каждого ребёнка, эмпатия и дружеская атмосфера.
Вижу это всё, как мама трёх школьниц
Существует широко распространённая метафора о «трёх непоротых поколениях». Но ошибочно интерпретировать её как необходимость опустить руки и поставить крест на нашем поколении, заодно приговорив к жизни в авторитарном обществе поколение наших детей.
Три непоротых поколения — это срок, после которого мы можем прийти к какой-то более гуманной модели. Но это случится только при условии, что мы будем активно пытаться поменять среду. Чтобы после трёх непоротых поколений мы получили гуманную школу, она должна немножко измениться уже после нас и при нас. Это я считаю важным проговорить, потому что это даёт нам смысл и цель в парадигме трёх непоротых поколений.
Я учился в консервативно настроенном ВУЗе, в котором училась также моя мама в советские годы. Мама удивлялась, что на первом курсе я вечером распечатывал найденные в Интернете дополнительные материалы к семинару по биологии. В её время на той же кафедре нужно было отвечать строго по лекциям. «У вас биология другая», — с удивлением говорила мне мама.
Нам надо стремиться к этому же. Чтобы мы с приятным удивлением сказали своим детям: «А у вас биология/физика/история другая…» И это «другая» подразумевало изменения в сторону большей свободы личности и большей гуманизации.
Как легко и незаметно одну цель подменяют другой.
Вместо того, чтобы увлечь ученика уроком так, чтобы ему в голову не пришло сбежать без причины, ставят цель удержать его в помещении где педагог вещает на неинтересные школьнику темы.
Ну так и находясь в кабинете можно не слушать.
Дисциплина нужна — звучит как аксиома даже здесь.
Как-то Николай Первый захотел отменить букву ять, ибо потребность в ней отпала за 300 лет до его правления. Отговорил его от этого публицист и издатель Н. И. Греч, мотивируя это тем, что не стоит облегчать жизнь гимназистам, чтобы не выросли лентяями и сибаритами. Тут надо заметить, что ять в корне слов не регламентируется никакими правилами тогдашней русской орфографии, и её применение надо было тупо зазубривать. А число корней с ятями превышало сотню.
И грешит этим не только школа, но и семья. Привожу пример из собственной жизни. Я с мелкого возраста быстро считаю. Нет, я не савант, в уме перемножающий 150-значные числа быстрее суперкомпьютера, но школьные примеры для младших классов решал мгновенно.
И вот, в 1969-72 гг., когда я учился в 1-3 классах, я делал домашку по математике за 10-15 минут. Родители проверяли, сверяли задание с дневником, проверяли ответы и не найдя, до чего до***ться, заставляли решить на отдельной бумаге ещё 50-70 примеров или пару десятков задачек из числа тех, что заданы не были. Чтобы жизнь мёдом не показалась и чтобы осталось как можно меньше свободного времени, ибо не фиг, а жизнь — это не удовольствие, а преодоление трудностей.
Дисциплина как аксиома — конечно, обющее место в аргументации моих оппонентов. В этом водораздел между мной и ими — для меня дисциплина и порядок важны не сами по себе, а во имя каких-то высших и более важных ценностей, для соблюдения которых мы вынуждены вводить ограничения. Вот в ценностях-то вся и соль. Надо задаться вопросом: «А ради чего дисциплина? Во имя чего?»
Так как для меня высшая ценность — человек как личность, я не очень понимаю, во имя чего может быть дисциплина по типу «Можно войти?»
А мнеогим в России, к сожалению, действительно доставляет удовольствие какое-то маниакальное жить в мире насилия. И нести его дальше. Для них это что-то вроде идеологии…
А не поделитесь, какая в какой именно стране ваша школа?
А вы знаете, что отпрашиваясь на перемене, старшеклассники идут в туалет и парят там. Затянулся, голова закружилась, шмякнулся головой об унитаз и дурак на оставшуюся жизнь. Но для Куракина, это авторитаризм и нарушение конституционных прав парящих в туалетах деток на свободу передвижения.
Не хотите устроится в школу, должность даже для вас придумаем, например, «дежурный по этажам во время уроков». Будете курсировать туда-сюда и проверять обстановку. И естественно за «большой барыш». Как вам?
Статья ни о чем. Написана человеком несведущим.
Что касается антитеррористической защищённости школ, то это крайне важно. Но это не повод проектировать школу как осаждённую крепость и приучать детей жить в таком режиме. Террорист может ворваться в любое место — так что, запретим опенспейсы в офисах и стеклянные двери в супермаркетах? Тогда уж надо делать двери в классы пуленепробиваемыми, парты желательно тоже. Это будет серьёзная защита, в отличие от непрозрачных дверей, не дающих никакой гарантии защиты от вооружённого маньяка. Но такого мы не видим в наших школах.
Скорее важно, чтобы у школьной охраны была возможность дать преступнику отпор. Я за то, чтобы это были сертифицированные ЧОПы, законно носящие оружие и способные нейтрализовать террориста ещё на входе. В сочетании с видеонаблюдением по всему периметру и дежурной группой захвата в быстрой доступности. Как, в принципе, защищены банки и ТЦ. Вот это важно.
Всё-таки важно строить мир, в котором растут свободные и счастливые люди. А не мир, вечно боящийся нападения.