Вы наверняка видели ролики учителя истории Кирилла Курицына, которые активно вирусятся в соцсетях (например, «Доказываю детям, что не старпёр»). Мы решили поговорить с Кириллом и думали, что это будет интервью про мемы, тренды и нестандартные подходы к современным детям. Но в итоге получился большой, честный и очень крутой разговор обо всем, что многие другие учителя знают, но боятся озвучивать.
Когда я смотрела твои видео, у меня сложилось впечатление, что ты очень хорошо понимаешь, что нравится детям. Приведу пример: когда я училась в школе, наш учитель обществознания принес на занятия какие-то стикеры с крабами и сказал, что поставит пятерку тому, кто соберет три стикера. Мы с одноклассниками тогда решили, что это жутчайший кринж. А вот у тебя получается найти подход к детям, и за твои стикеры они радостно соревнуются. Как у тебя это выходит?
У меня очень много мыслей по этому поводу. Для начала — я считаю, что учитель должен позволить себе выглядеть кринжово. Есть огромное количество учителей старой закалки, которые очень переживают за свой авторитет. А я вообще не боюсь показаться смешным. Я учился на истфаке регионального вуза — мне не страшно оказаться глупым. Главное правило учителя — нужно оседлать кринж. На кринжовом коне прискакивать на урок. С кринжового копыта открывать кабинет.

Потому что — сюрприз-сюрприз — учителям тоже бывает очень скучно. И нет ничего хуже, чем когда скучно и ученику, и тебе. То, что я делаю, для меня — палочка-выручалочка. Я боюсь скуки, поэтому пытаюсь ее как-то разбавить, причем нарочито кринжово.
Это такой художественный юмористический прием. Об этом же мои первые видео, которые я совершенно спонтанно решил записать: в них я пытаюсь общаться с детьми на нарочито молодежном языке из мема со Стивом Бушеми «How do you do, fellow kids?».
Смысл не в том, чтобы показать, как нужно общаться с детьми, а в том, чтобы сделать так плохо, чтобы было хорошо. Надо быть таким Томми Вайсо от мира образования (Томми Вайсо известен по фильму «Комната», в котором он выступил в роли сценариста, режиссера, продюсера и исполнителя главной роли. «Комнату» назвали худшим фильмом в истории кино, но он стал культовым и породил множество мемов. — Прим. ред.).
Слава богу, большинство детей это понимают. Есть, конечно, ученики, которые вообще ничего не понимают, но это не их проблема, они, скорее всего, и по жизни ничего не будут понимать. Просто такой тип людей, которым кидаешь какие-нибудь постироничные мемы, а они не понимают, что это такое и почему над этим надо смеяться. И с такими детьми тоже приходится сталкиваться, они наверняка думают, что я дурак. Слава богу, таких детей мало. Большинство с очень большим энтузиазмом это принимают.
Конечно, я понимаю, что здесь важно сохранить грань. Это и есть педагогический вызов нового времени
Ты балансируешь между условным хорошим кринжем и панибратством. Очень легко начать веселиться и уже не выйти из этого прикольного пике, но тогда твои уроки станут бессмысленными.
Мои дурачества — всего лишь инструменты, с помощью которых я доношу до детей информацию, и я ни в коем случае не прихожу на уроки только для того, чтобы поугорать с детьми. Даже больше скажу: мы с детьми в любом случае не поугораем, мы разного возраста, это надо принять. Но и проводить четкую дифференциацию между авторитетными взрослыми и неопытными детьми нет смысла.
К чему я это — есть учителя разного возраста, мои коллеги, и постарше, и помладше, которые почему-то очень боятся поделиться с детьми своими интересами. Рассказать, что они смотрят, что читают. Я вот, допустим, очень люблю обсуждать с детьми аниме. Правда, я аниме смотрел очень мало, но какую-нибудь классику смотрю, и если ребенок тоже смотрит условного «Берсерка», я его с ним обсуждаю и так как бы цепляю. Особенно если ученик какой-нибудь сложный, ему ничего не интересно, но ему нравится «Берсерк», я думаю — ну и чёрт с ним, будем обсуждать «Берсерка».
Чтобы найти общий язык с ребенком, не получится открыть словарь мемов и сказать: «Я сегодня это почитаю и приду к детям подготовленным». Нет, нужно самому интересоваться массовой культурой.
И это работает? Можешь ли ты сказать, что твои дети из-за этого больше тебе доверяют?
Доверяют 100%. Запоминают ли они новый материал? Я пока не буду говорить, что всё так волшебно. Я ни в коем случае не утверждаю, что вот эта методика, когда вы впускаете на свой урок мемы, какие-то приколы из тиктока, массовую культуру, универсально рабочая. Это, безусловно, новый уровень, который переворачивает школьную систему преподавания. Но нужно смотреть на результаты. И потом, у меня предметы гуманитарные. Что там делать с математикой, я, если честно, не знаю. Но я точно знаю, что учитель должен оставаться прежде всего интересным человеком. И если учитель интересен сам себе, то он будет интересен и ученикам.
А ты помнишь себя в школе? Чем современное образование отличается от того, что получал ты?
Да, я себя помню… Вот ты рассказывала про стикеры с крабом — и я вспомнил историю. Второй класс, урок математики, которую я ненавидел, она мне очень плохо давалась, я всегда был гуманитарием. И вот к нам в класс заходит хрестоматийный мужик из цирка, чуть ли не с питоном, который объявляет: «Ребята, в Иваново приезжает цирк на воде». Он рассказывает, что у него есть 5 календариков — таких вот маленьких вшивых календариков, — которые он готов подарить самым активным ребятам на уроке. И я за этот календарик… Я не то чтобы математику был готов отвечать, я мать с отцом продал бы ради этого календарика. Но в оправдание хочу сказать, что это был 98-й год.
У нас из развлечений были либо вот этот цветной календарик, либо смотреть, как за окном ветер подбрасывает целлофановый пакет. Всё
Да и я был не самым лучшим представителем школьного сообщества в свое время, вот в чем проблема. Нет, я не был каким-то хулиганом, но я был очень зашуганным школьником. Я был воспитан в духе «если не получишь высшее образование, пойдешь работать дворником». И всё детство панически боялся стать дворником. По иронии судьбы дворник сейчас получает больше, чем учитель истории в 68-й школе города Иваново. Ну да ладно. В общем, я от звонка до звонка в школу ходил, не прогуливал. Списывал, конечно, потому что в точных науках был очень слаб. Но я ходил и боялся учителей.

Дети вообще в то время не то чтобы были своенравны. Сейчас они себе на уме и не боятся дерзко общаться с учителем. В мое время дети были намного спокойнее. Мы не были каким-то «покорным поколением». Но мы были детьми 90-х, просто пытались как-то раскачаться, понять, что хорошо, как делать правильно, как говорить правильно.
Если у нас был бы такой же бэкграунд школьный, как у современных детей с огромным количеством трафика из интернета, мы бы, конечно, что-то знали. А мы вообще ничего не знали. Наверное, мы последнее поколение людей, которое реально многую информацию о мире вокруг получало в школе. Поэтому нам даже иногда было интересно.
А еще мы не видели ситуаций успешного успеха, о которых сейчас рассказывают на каждом шагу. Нам никто не говорил: ребята, прикиньте, на самом деле не обязательно учиться в университете, вам даже, может быть, будет хуже от того, что вы туда пойдете. Мне, кстати, нравится, что современным детям говорят «не парьтесь». Не бойтесь не поступить в вуз или получить плохую оценку.
Мы панически боялись получить плохую оценку. А в школе же важно стремиться получить вообще любую оценку, потому что это оценка. Она не может быть плохой или хорошей. У нас же было четкое разделение. Мы были уверены, что в случае двойки нам хана не только от родителей, но и хана в будущем.
Говоря о современной системе образования в блоге, ты периодически ее критикуешь. Можешь сформулировать, что тебя в ней смущает?
Очень многое.
- Бюрократия. О ней сейчас уже, конечно, все говорят. Но от этого проблема не становится менее актуальной. Я в этом смысле человек абсолютно недисциплинированный. Вот прямо сейчас у меня открыт электронный журнал, и я его не заполню, скорее всего, до воскресенья (мы говорили с Кириллом в пятницу. — Прим. ред.). Не лучше ситуация и с бумажным журналом.
- Дальше — система оценивания. Я не знаю, правда, что значит «пять», а что значит «два». Можно заставить человека выучить какие-то термины. Он ответит «знает, не знает», и тогда я ему что-то поставлю. Но как оценивать сочинение или мнение человека? Возьмем, допустим, урок литературы. Немножечко не моя стезя, но у меня мама филолог, и поэтому периодически я узнаю новости от нее. Допустим, как оценивать сочинение по «Горю от ума», где Фамусов представляется злодеем, а Чацкий непонятым героем? Один ученик написал сочинение, где полностью поддерживает Фамусова, потому что не понимает, почему он должен радостно отдавать свою дочь за Чацкого. У него всё сочинение было построено на этом. За орфографию поставили четыре, за смысловое содержание три. Кто эти рамки вообще придумал? Мне кажется, я не должен оценивать мысли ученика, я должен сказать, согласен я с ним или не согласен. Максимум, что я могу оценить, это факты, риторика и логика. Меня вымораживает, что мы вынуждены оценивать мысли ученика вообще как таковые. Это ограничение творческого мышления.
- Еще меня бесит стремление ввести школьную форму. Я не понимаю, откуда у них это желание ограничить любое внешнее самовыражение. Дети в школе еще слишком малы и неопытны, чтобы самовыражаться с помощью своего внутреннего мира. Поэтому они самовыражаются розовыми волосами и длинными ногтями. Но учителя продолжают на переменах чехвостить их за слишком длинные волосы и так далее. Если мы будем преследовать ученика за его внешний вид, он будет этот внешний вид отстаивать. И тратить огромное количество моральных и физических сил на саботаж школьного устава, хотя мог бы потратить их на творческую реализацию.
- Отстаньте и от внешнего вида учителей. Я не буду носить костюмы в школу. Не хочу. Я не буду носить туфли в школу. Я старый человек, у меня болят суставы от туфель. Я люблю носить кроссовки. Отстаньте от внешнего вида учителей, отстаньте от внешнего вида учеников.
- Дальше — стремление к установлению авторитета. Некоторые учителя прямо кайфуют от этого. Они сталкиваются с протестующим учеником, и начинается: «Ты либо мне сейчас подчинишься, либо мы уничтожим друг друга прямо на этом месте». И вот они с ним стоят и целый урок самоутверждаются. Учителям надо быть намного проще. Никто не будет уважать учителя за то, что он орет. Его просто будут бояться.
- Еще я бы изменил нафталиновый нейминг в школе. Все эти «культмассовые организации». Вот это вот «дети, сегодня мы с вами организуем театральный фестиваль „Маска, я тебя знаю!“». Мне очень режут ухо слова «сценки», «веселые антрепризы», «последний звонок». Кому это интересно? Заму по воспитательной работе с химией на голове, может быть. Весь год она орала на ребенка, а потом какой-нибудь Юра из девятого класса выходит и рассказывает ей заученное стихотворение о том, как мы обязаны учителям, и у нее идет слеза. Но больше это никому не надо. Это никому не интересно, это не трогает. Нужно дать детям больше творческого самовыражения. Даже у нас вроде бы прогрессивная школа, но на днях будет конкурс «Маска, я тебя знаю!». Нужно ли это кому-то? Не нужно. У меня вчера семиклассница миллион просмотров в тиктоке получила за песню про барабульку. Конечно, ей не нужна «Маска, я тебя знаю!».
А что можно организовать вместо этого? Как сделать занятия и вот эту «культмассовую деятельность» интереснее? Многие скажут, что постановки и сценки сближают учеников, позволяют им как-то организовывать досуг. Чем это заменить?
Это можно понять только путем проб и ошибок. Проблема образовательного процесса в России в том, что, если ты хочешь что-то изменить, от тебя требуют: пожалуйста, принеси нам все свои предложения, чтобы условная Ольга Николаевна всё поняла. На бумаге. И с завтрашнего дня это должно работать на все сто, чтобы мы отчитались в Министерстве просвещения. Но так сделать, к сожалению, невозможно. Менять формат очень тяжело. Но, возможно, возможно! Прежде всего можно больше слушать учеников. Спрашивать их, что им вообще нравится сейчас. Дать им трибуну на уроке.
Допустим, у меня позавчера был урок на замене. Я не люблю замены, потому что я не люблю работать в это время. Поэтому я показывал детям свои любимые видео на YouTube для деградации. То есть я им показывал видео «Смотрю „Золотая чаша, золотая“ 10 часов», «Смотрю „гиги за шаги“ 10 часов», а ученики мне показывали, что они любят. Ну, такой урок guilty pleasure («постыдное удовольствие». — Прим. ред.) у нас получился. Конечно, я сначала очертил, что мы это делаем только в определенное время, а заканчиваем тогда-то, чтобы у них не сложилось впечатления, что так будет всегда.
Надо понять, для кого мы пытаемся менять привычные форматы. Мы, учителя, к сожалению, люди подневольные. Мы стараемся не для самих себя, а для учеников. А им нужно дать творческую свободу. Я, конечно, понимаю, что это тоже утопия, потому что, скорее всего, вы дадите им волю, а они вообще ничего не придумают, потому что привыкли к этому. Но как-то раскачиваться всё же надо. И нужно пробовать, чуть ли не каждый месяц пробовать. Даже должность есть для человека, который должен всё это разрабатывать. И школьные советы.
Если мы каждый год используем одно и то же — последний звонок со стихами или школьным вальсом — и просто хотим это всё осовременить, ничего не получится. Нужно, чтобы всем было интересно. Это поступательное движение друг к другу. Пока же я вижу, как учителя таскают везде детей, которым вообще в принципе ничего из этого не надо.
Думаю, в 9-м классе я с гораздо большим энтузиазмом вместо капустника пошла бы на день показа любимого брейнрот-контента. Наверно, современных учеников это правда сближает лучше. А как ты вообще пришел к тому, чтобы быть учителем? Единственный ли это выход после истфака?
Нет, это вообще не единственный выход. По идее, после выхода с истфака тебе открывается много путей. Но идти по ним необязательно. Истфак дал мне хорошую базу, научил критическому мышлению и абьюзивным отношениям. Это я про своего дипломного руководителя: у нас были токсичные отношения профессора и очень ветреной девушки. Я был ветреной девушкой. Про себя думал, что я медиевист, эпоха Юстиниана — моя эпоха. А он меня вообще всерьез не воспринимал.
Тем не менее истфак научил меня полезному навыку — параллельной проверке любых источников. И тому, что образование не заканчивается после 4–6 лет в университете, а продолжается всю жизнь. Ты должен постоянно узнавать что-то новое.
Учителем я работаю из-за денег и вообще это не скрываю. Я не хочу говорить, что это мое призвание и что я вообще жить не могу без детей
Я могу жить без детей. Я не родился с этим призванием. И, наверное, учителю будет легче, если он сможет честно сказать, что на самом-то деле дети его немножко раздражают. Это хотя бы честно.
Меня тошнит от преподавателей из разряда «я найду подход к каждому ребенку». Я тоже могу найти подход к каждому ребенку, но это ж сколько крика будет… И, скорее всего, найду подход только к концу года. Сейчас у меня есть классное руководство, и прошлый год я воевал с одной девочкой из своего класса, а потом нашел к ней подход, и мы с ней прекрасно общаемся. Но до этого общение было отвратительным.
Раньше я работал радиоведущим на ивановской «Европе Плюс», потом в Нижнем Новгороде, а потом три года на московском «Юмор FM». В 2022 году пришлось уйти из эфира. Работа учителем появилась в моей жизни просто из-за того, что я могу ею заниматься. Когда я впервые начал учить на пятом курсе, это было отвратительно. Меня тогда отвернули от работы учителем даже не зарплата или нагрузка, а мое поведение в школе. Я собрал все ошибки школьного учителя.
И панибратство, и стремление изменить в корне всю школьную систему. Ничего не получилось, и ничего не получилось стремительно быстро. Поэтому я некоторое время школу за километры обходил. Школа у меня в жизни появлялась только тогда, когда появлялись какие-то сложные жизненные обстоятельства. Я думал: ну ладно, уволят с этой работы, в школу пойду, в школу всегда можно устроиться. Только с этого года я начал получать от школы какие-то депозиты — она стала площадкой для экспериментов.

Кстати, про эксперименты. У тебя в блоге есть рубрика «Доказываю, что я не старпёр», где ты говоришь с детьми о современных трендах. Я хочу, чтобы ты напоследок оценил для меня несколько из них. Начнем с базы. Как ты относишься к квадробингу?
Очень спокойно. Как и к хоббихорсингу. Если ребенок этим занимается, пускай он этим занимается. В первую очередь это пластика. По крайней мере он не будет сейчас, как я, страдать от боли в спине не каждый вечер. Супер.
Как тебе завирусившаяся фраза «А ниче тот факт, что…»?
Проблема в том, что дети не могут перестать так говорить. Они услышали прикольную фразу и начинают ее использовать. Я не против самого мема — он смешной. Я против того, что его затирают до дыр.
Знаком ли ты с таба-лапками?
Мне они нравятся, я их сам жмакаю, это ж круто. Более того — с недавних пор у нас в школе таба-лабки запрещены по моей вине. Однажды на мой урок пятиклассницы взяли таба-лапку. А я обожаю лизуны, таба-лапки, слаймы. Когда они их приносят, я могу целый урок сидеть и играть с ними. И вот как-то раз они эту таба-лапку повесили на потолок и не смогли ее достать. Девочки соорудили конструкцию из двух парт и залезли на нее. Их за этим застала завуч. Естественно, был скандал, потому что они могли упасть и убиться. Возник вопрос: неужто никто из учителей их не заметил?
Решили посмотреть камеры. И увидели картину: в кабинет заходит учитель истории, смотрит на потолок, показывает на него пальцем, а потом все начинают ржать. Учитель уходит, и ребята делают конструкцию. Я был в опасности тогда.
Но я не понимаю людей, у которых таба-лапки вызывают какой-то негатив. Я правда не понимаю. Мне интересны таба-лапки.
Как тебе мем «Карась дуреет с этой прикормки»?
Мне нравится, когда его развивают. Я очень много увидел смешных прикормок. Я дурею с белорусской сгущенки, режиссерской версии «Властелина колец» и авокадо.
И, видимо, таба-лапок.
Да, и еще от всей синтетики, которую можно пожмакать. То есть слаймы тоже, я как бы не хочу обидеть слаймы. Это для протокола.
А как тебе песня Sigma Boy?
Ненавижу.
Не люблю ее. Я даже больше скажу — я знаю человека, который сделал Sigma Boy, потому что он у меня был продюсером на радио «Юмор FM». И он эти песни клепает и пишет за пять минут. Я бы к этой песне «Барабульку» (популярная в соцсетях песня Вовы Солодкова. — Прим. ред.) еще присобачил, она сейчас тоже набирает обороты.
Кирилл, у меня к тебе только один последний вопрос остался. Как часто ты думаешь о Римской империи?
Я каждый день думаю о Римской империи. Ну правда, я действительно, наверное, каждый день думаю о Римской империи, а когда не думаю, заставляю себя думать. У меня вот на компьютере игра Rome: Total War стоит, понимаешь? Я даже в ванильную версию не играю, у меня там такие моды, господи боже… в общем, это отдельный разговор.
Обложка: личный архив Кирилла Курицына

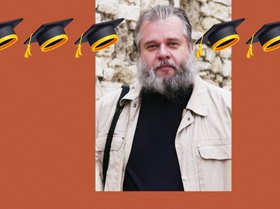











Он негатив от педагогики принуждения, которая привычна для российской школы с советскими традициями, пытается сгладить с помощью кринжа, абсурда, расширения форм поведения.
Действия историка Кирилла Курицына формировались на базе знаний о неоднозначности исторических событий (здесь он не одинок https://mel.fm/blog/yury-nikolsky/70542-shkolny-uchebnik-istorii-ne-sposoben-otrazit-polnotu-realnykh-sobyty).
Пожелаем же, чтобы его энтузиазм регулярно дополнялся бы достойным финансовым успехом в такой мере, чтобы его зарплату можно было бы сравнивать не только с зарплатой уборщицы.
Вся эта история с якобы «шагом навстречу», на деле ведет к деградации педагогики и усвоения дисциплин, ею преподаваемых. А также уничтожает и колеблет авторитет учителя, как наставника. К сожалению, адепты новых веяний из числа преподавателей не понимают, что рубят сук, на котором сидят.
Однажды я видела подростка, танцующего во время минуты молчания о погибших в Великую Отечественную войну. Наверно, у него тоже был такой веселый учитель истории.