Ольга Васильева сказала: родители считают, что школа им что-то должна. Сами родители подмечают другое: как только ребёнок переступает порог школы, оказывается, это ты всем должен. Диалог построить не получается, а доверие рушится. Почему отношение школы и родителей всё больше напоминает противостояние и можно ли это изменить — рассказывает Елена Варламова.
Игры в шпионов вместо диалога

Когда вашему ребёнку исполняется семь, вы больше чем на десятилетие отдаёте его в госучреждение, именуемое школой. Теперь формированием личности человека, его взглядов и даже политических предпочтений будете заниматься не только вы, но и какие-то совсем не знакомые вам люди, которых вы впервые увидите лишь незадолго до начала обучения. В идеале родители хотели бы сотрудничать со школой в диалоге, но чаще получается что-то вроде игры в шпионов.
Родители стараются собрать побольше информации о школе. Шерстят отзывы в интернетах и допрашивают коллег по детской площадке. А школа следит, чтоб ни одна соринка не была вынесена из избы, чтобы лазутчики-родители, не дай бог, не узнали что-нибудь лишнее и не сунули бы нос, куда не надо. Даже в дни открытых дверей школы не спешат показать свой внутренний мир. Большинство кабинетов остаются заперты, а родители под бдительным взглядом охраны препровождаются в актовый зал, послушать заранее подготовленные речи учителей и заученные песни и танцы учеников.
После поступления ребёнка в школу его родители также остаются «не вхожи» в неё, как и раньше. Порой кажется, что это на них школа ощетинилась турникетами. Потому что захват может случиться в одном случае на миллион, а родителям первоклашек приходится обращаться в школу чуть ли не каждый день. И если школе что-то от тебя нужно: купить, принести или отремонтировать, то двери без проблем открываются, а вот если что-то необходимо тебе — уже сложнее.
Чем больше школа закрывается от родителей, тем более ухищрёнными становятся их методы проникновения туда
Нельзя войти, нельзя узнать, как учитель общается с учениками? Нельзя побывать на уроках и понять, какой уровень знаний и у детей, и у педагога? Тогда родители проникают в школу тайно, не этично и не совсем законно. Они «сидят» в смарт-часах и мобильных телефонах своих детей. Они знают всё, что происходит на уроке. И иногда лучше бы не знали. Потому что многое из того, что услышано, достойно того, чтобы забрать ребёнка из школы. И если родители пока молчат, то только потому, что точно знают — в другой школе всё то же самое.
«Сколько? И во сколько?» — единственно возможные вопросы
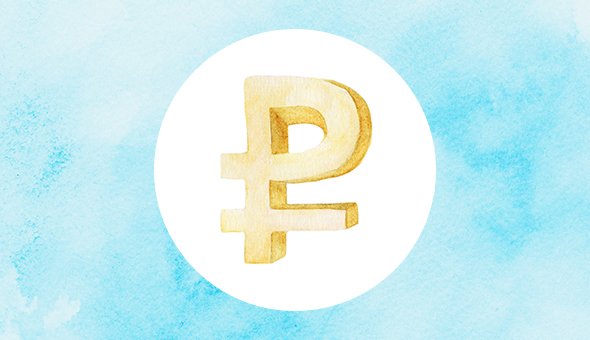
Пока ребёнок учится в школе, у родителей возникает масса вопросов и предложений. Что-то можно было бы улучшить, что-то немного изменить. Нет, они не вмешиваются в учебный процесс. Не хотят менять ФГОС или учебники (хотя стиль изложения некоторых учебников может вывести из себя).
Но как минимум родителей интересуют безопасность и комфорт детей в школе. Беспокоит качество питания в школьной столовой. Интересует, как общается учитель с детьми. У родителей бывают организационные вопросы и пожелания. И в идеале они бы хотели иметь возможность обсудить их не только с классным руководителем, но и с завучем, и с директором.
Но всё, что могут попробовать самые смелые из родителей, это мягко и очень любезно (а иногда и заискивая) пообщаться с руководством школы. Чтобы, не дай бог, не дать ему (а еще хуже — ей!) повод обидеться или подумать, что вы чем-то недовольны. Впрочем, как бы любезны и осторожны вы ни были, как бы сильно ни улыбались директору школы или завучу, всё равно вас занесут в чёрный список, потому что вы — «мамочка, которая задаёт вопросы». Не возмущается, не высказывает претензии. А просто «задаёт вопросы». Этих страшных слов в школе боятся почти так же, как буквосочетания «ЧэПэ». А на все ваши вопросы руководство школы приведёт сто тысяч аргументов, почему всё то, о чём вы говорите, выполнить ну никак не возможно. Нет денег, нет помещений, не велит СанПин — лишь бы ничего не менять.
«Сколько?» и «Во сколько?» — вот вопросы, которые я слышала когда-либо от родителей», — сказал один московский учитель. И к другим вопросам школа всё ещё не готова.
Карманный управляющий совет (и что это такое)

Формально у родителей сейчас есть возможность открытого диалога с администрацией школы. В каждом учебном заведении есть управляющий совет, в состав которого входят и родители, и сами ученики. Но если мы остановим наугад какого-то родителя, то он, скорее всего, понятия не имеет, что это за совет и чем он управляет. Ни на одном родительском собрании учителя о нём не рассказывают.
А между тем управляющий совет, по его уставу, утверждает учебную программу, выбирает учебники, а ещё контролирует финансово-хозяйственную деятельность школы. На деле Совет оказывается марионеточным органом при администрации школы, который расставляет подписи «за» под директивами администрации и указаниями, спущенными из департамента рбразования. Например, в 2013 году управляющие советы чуть ли не всех московских школ поддержали возвращение школьной формы. Родителям, если почитать обсуждение на форумах, это решение преподнесли на общих собраниях как указание Департамента образования, а по документам — это сами родители так «проголосовали».
По-настоящему активные родители не хотят идти в управляющие советы, где царит подозрительное единодушие по всем вопросам. Потому что «подмахивать» всё, что скажут, — противно, а говорить что-то поперёк — страшно. Не за себя — за своего ребёнка.
Только в некоторых московских школах председатель Управляющего совета — какой-нибудь активный родитель. Обычно это чиновник, не имеющий прямого отношения к школе: допустим, глава управы района, где расположена школа, или префект округа, или депутат. А ещё школы любят приглашать управлять своими советами актёров, музыкантов. И вполне возможно, что все они прекрасные люди, но сомнительно, что у них есть время вникать во все проблемы школы и тем более решать их.
Среди глав управляющих советов московских школ: бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, ведущие Первого канала Виталий Елисеев и Сергей Бабаев, дрессировщик Аскольд Запашный (от родителей) и даже зампред Правительства России Аркадий Дворкович (от выпускников).
На сайтах школ есть электронные адреса и контактные телефоны председателей управляющих советов, а ещё дни и часы приёма. Но вот почему-то слабо верится, что если от родителей придёт сигнал: «В начальной школе откололась плитка на полу, первоклашки спотыкаются и разбивают себе носы, а для занятий на лыжах забыли сдвоить уроки, и дети успевают только надеть и снять снаряжение» — эти люди всё бросят и побегут решать насущные для родителей и детей вопросы.
То же самое касается финансов. Теоретически родители могут узнать, на что школа расходует деньги. Но на практике раздел «финансово-хозяйственная деятельность» официальных сайтов выдаёт только общие цифры дебета/кредита. Скупая строка: «Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего — ХХХ млн. руб./год» не ответит на родительский вопрос: «Почему из этих денег нельзя было потратить пять тысяч в месяц на туалетную бумагу и мыло для всей школы?» или «Почему нельзя отремонтировать детскую площадку для продлёнки?».
Фактически всё, что оставлено на обсуждение родителям из школьных дел: это выбор подарков учителю и детям на Новый год и Восьмое марта. И даже какого Деда мороза позвать первоклашкам или где нанять фотографа — «подскажет» администрация школы. И стоимость их услуг озвучит. А если родители вдруг предложат свой вариант, то администрация сразу вспомнит, что посторонним лицам на территории школы находиться запрещено.
Переговорщики и заложники
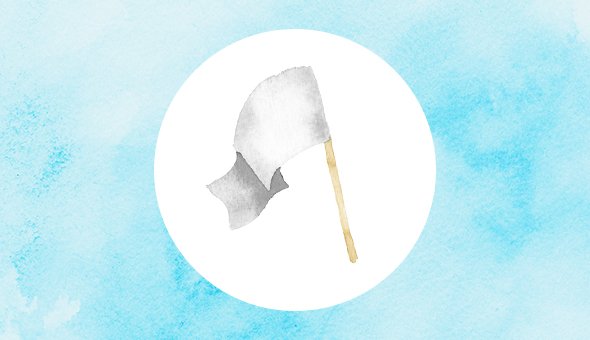
Чаще всего, не найдя взаимопонимания с руководством школы, родители становятся «бойцами невидимого фронта». Они пытаются исправить нарушения, информируя о них вышестоящие инстанции. Впрочем, Департамент образования не будет высылать комиссию проверять нарушения (кроме совсем уж серьёзных), а просто спустит письмо обратно в вашу же школу. И тогда не избежать конфликта ни с директором, ни с классным руководителем. И всё может отразиться на ребёнке.
Конфликты родителей и администрации не должны отражаться на детях? Да, конечно. Если перед вами настоящие педагоги. А если перед вами просто люди сложной судьбы, которых эта самая судьба занесла в школу, можно ждать даже буллинга. Родители просто боятся и даже не пытаются что-то выяснить у администрации школы, чтобы не выдать себя и не подставить ребёнка. Сразу пишут жалобы в департамент — с фейкового адреса и под абстрактным ФИО. Только такая схема позволяет хоть что-то изменить.
Ваши дети переодеваются на физкультуру в классе, а занимаются ею в коридоре? Все рекреации в школе переоборудованы в кабинеты и детям негде бегать на переменках? Продлёнка не выходит гулять? Закрыт один или несколько туалетов? Это нарушение СанПиН. Детям задают домашнее задание и ставят оценки в первом классе? Учеников в обязательном порядке отправляют на платную экскурсию или спектакль? Да ещё и в учебное время, а отказавшимся зачтут прогул? Это нарушение закона «Об образовании».
Беда в том, что и основная масса родителей ничего не знает о законах и нормативных документах, которые регулируют работу школы, поэтому защитить ни свой карман, ни права своего ребёнка чаще всего не в состоянии.
Большинство родителей молчат или тихо ворчат по чатикам и родительским форумам. Потому что никто не враг своему ребёнку
Сейчас родитель в школе — самое бесправное и униженное существо. Он и подсобный рабочий, и уборщица, и просто дойная корова.
Если по диагонали почитать любой из родительских форумов, то звучит одна фраза, которая почти дословно повторяется из текста в текст: «Я бы разобралась с этим (нарушением), я бы им сказала, но что я могу, ведь мой ребёнок у них в заложниках!».
Заложники… какое страшное слово. При его упоминании сразу вспоминается Беслан. На каком же уровне находятся отношения родителей со школой, что они представляют своих детей её заложниками?! И о каком диалоге можно говорить, если основной движущий родителями мотив — это страх за ребёнка.
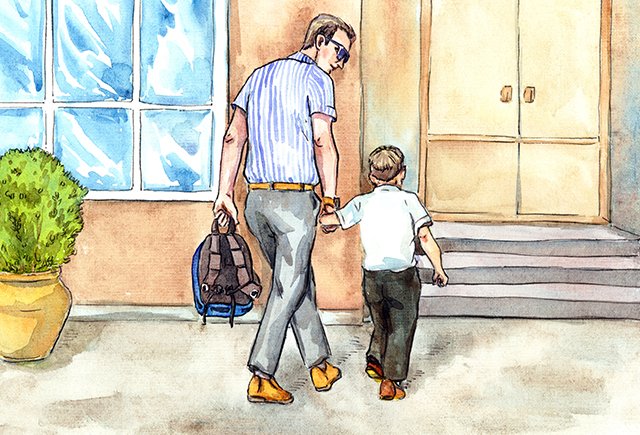










Татьяна Васильевна
И просто вдумайтесь: сейчас заправляют системой учителя возраста «под сорок-шестьдесят лет». Это значит, что это дети хиппарей, стиляг и битломанов, это во-первых. Это поколение выросло «с ключом на шее», это во-вторых. Это поколение отрывалось с ирокезами, отжигало под диско, фарцевало в школе жвачкой, это в-третьих… И в-пятнадцатых: в 70-е, 80-е, 90-е годы в пединститут шли только те, кто не мог поступить в ВУЗ на более престижные профессии (проходной балл в мединститут был примерно 4 с половиной балла, в театральный — 4, в политехнический — от 3 с половиной). А в педучилища попадали и вовсе те, кто не дотягивал до пединститута, но в ПТУ им идти было совсем обидно.
Так и получились учителя из бывших троешников с амбициями. А тут им по возрасту пришли должности с возможностью глумиться не только над учениками, но и над коллегами, самоутверждаясь за счет родителей.
Помним при этом, что во все времена были Песталоцци
Если вас не устраивает образование в нашей стране — есть надомное обучение, частные школы, в конце концов есть возможность образования за границей.
Я так понимаю, что большинство здесь не улавливает простого посыла — мы всё: учителя, ученики, родители, являемся участниками образовательного процесса. И надо договариваться о том, что делать, а не перекладывать друг на друга ответственность.
Не забудьте и о том, что мы равны в гражданских правах. И каждый должен помнить о своих обязанностях.
Как часто вы заглядывает в дневник своим детям? Когда вопрос о неаттестации возникает?
Как часто вы спрашиваете не «почему низкая оценка», «а что сделать, чтобы исправить положение»?
В своем ответе сразу опоминаете ребенка, переходите на личность автора и его ребенка! Печально, что детей воспитывают люди, как метко, написал автор, со «сложной» судьбой. В 90-е в педучилища и педвузы шли совсем слабые выпускники и представители с низким культурным уровнем. Для них открылись ворота, позволившие подняться на одну социальную ступенечку выше.
Зато, вежливого и интеллигентного родителя как раз не пропустят — будет стоять за дверью до посинения, раз не может переть напролом.
Согласен, что сейчас учителя ещё в большей степени запуганы и задавлены множеством формальных требований, выполнение которых никак не связано с качеством образования. И в этой ситуации сильного давления со стороны государства, школа предпочитает не сотрудничать с родителями, а отгородиться, видя в них только источник дополнительных проблем. Как там у Солженицина: «Кто арестанту главный враг? Другой арестант.» Вот так и живём.
А бывает и проще схемы. Школа «закупила» на бумаге, родители «оплатили"в реальности.
Знаете, какое главное слово характеризует в этой системе " хорошие " отношения между участниками?
Безотказный. Безотказный учитель проведёт столько уроков, сколько скажет администрация школы; безотказный родитель всё оплатит и всё привезёт; безотказный ученик поучаствует во всех олимпиадах и во всех меропрятиях, и так далее и тому подобное. А потом они все придут домой и
упадут. В болезни, в эмоционаное выгорание, в депрессию, в ненависть к друг другу, в конфликты с домашними. А уважение к другому, это как раз про возможность сказать «нет», воспользоваться своим правом отказать без объяснения причин. Или с объяснением причин.И быть услышанным. И знать, что другой остановится после того, как ему откажут и не будет продолжать движение вглубь, доставая до самых печёнок.
И просто вдумайтесь: сейчас заправляют системой учителя возраста «под сорок-шестьдесят лет». Это значит, что это дети хиппарей, стиляг и битломанов, это во-первых. Это поколение выросло «с ключом на шее», это во-вторых. Это поколение отрывалось с ирокезами, отжигало под диско, фарцевало в школе жвачкой, это в-третьих… И в-пятнадцатых: в 70-е, 80-е, 90-е годы в пединститут шли только те, кто не мог поступить в ВУЗ на более престижные профессии (проходной балл в мединститут был примерно 4 с половиной балла, в театральный — 4, в политехнический — от 3 с половиной). А в педучилища попадали и вовсе те, кто не дотягивал до пединститута, но в ПТУ им идти было совсем обидно.
Так и получились учителя из бывших троешников с амбициями. А тут им по возрасту пришли должности с возможностью глумиться не только над учениками, но и над коллегами, самоутверждаясь за счет родителей.
Помним при этом, что во все времена были Песталоцци
Самое бесправное и униженное существо — это учитель, увы. Обязанный угодить начальству (для рейтинга нужно не менее стольких-то процентов того-то и не менее стольких-то баллов сего-то, где хотите там и берите); ученикам (не хочу, не буду, отстаньте, дневник не дам — не имеете права); и родителями (почему у моей гениальной деточки не пятёрка?)
Я — педагог. В музыкальной школе. У нас индивидуальное обучение, которое имеет свою специфику: с первых уроков ребенок учится выполнять координационно сложные, мелкие, порой — микроскопические мышечные движения, которые он, к тому же должен соотнести со слуховыми представлениям, исполнить четко в заданном темпе и ритме, довести своё исполнение до автоматизма.
Так исторически сложилось, что мастерство игры на музыкальном инструменте изначально было потомственным, передавалось «от отца к сыну», затем состоятельные родители стали приглашать учителей музыки к детям с проживанием в семье. Выдающийся фортепианный педагог Николай Сергеевич Зверев брал талантливых подростков в ученики лишь с условием, что они на все время обучения (несколько лет!) занимаются и живут в его доме на полном пансионе. Среди этих подростков, как известно, был Сергей Рахманинов. Методика преподавания игры на инструменте насчитывает не одно столетие, и в ней мало что меняется: для правильного формирования базовых навыков на начальном этапе ребёнку нужен контроль старших, а, со временем, у ребёнка развиваются навыки самоконтроля. По программе нашей музыкальной школы педагог даёт каждому ученику два индивидуальных урока в неделю продолжительностью по 40 минут каждое. Остальное время дети занимаются самостоятельно, а для контроля со стороны необходима помощь родителей.
С этого учебного года взяла класс фортепиано в новой для меня школе. Почти все дети первого года обучения. Я попросила родителей присутствовать на уроках. Родители с готовностью откликнулись, посещали все уроки, результаты были. С декабря ввели электронную пропускную систему. Родителям категорически запретили проходить в классы, мотивируя это угрозой терроризма и ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ). Руководство школы ссылается на некое распоряжение сверху, которого так никто и не видел. При этом директор, имея муниципальное задание и план о развитии внебюджетной деятельности школы, тут же предложила родителям платные «консультации». Стоимость одной консультации — 300 рублей. Т.е. при упоминании об оплате, проблема безопасности и здоровья детей становится неактуальной.
Мне было очень странно, что родители, которые заинтересованы в успешном обучении своих детей (а таких у нас очень немного!), и которые, по закону «Об образовании в РФ» являются, наравне с учащимися и преподавателями, «субъектами образовательного процесса», приравниваются к террористам, а за возможность помогать своим детям получить «бесплатное» образование в музыкальной школе они должны заплатить.
Если по одиночке.
В то же время, права есть у всех, как и возможность их реализовать. И у директора, и учителей, и у Родителей. Если думать о детях…
Сейчас, к сожалению, один бесправный бесправий другого бесправного, защищая не детей, не Закон, не порядок, а своё мнимое спокойствие.
О бесправии и невозможности защитить детей расскажите ему — https://m.vk.com/@277799488-00003
Чтобы перестать быть бесправным, достаточно воспользоваться своими правами и почувствовать себя Человеком.
Как мы.