15 миллионов на слежку за студентами: что такое прокторинг и почему он не поможет вузам

Экзамены в онлайн-формате стали актуальны во время ковида, но и сейчас многие преподаватели проверяют знания студентов дистанционно. Вот только понять, не пользуется ли студент шпаргалками, помощью друга или телефоном, в онлайне получается не всегда. Чтобы помочь преподавателям, придумали систему прокторинга — наблюдения за поведением студента при помощи ИИ. Но наш блогер, ректор РосНОУ Владимир Зернов, сомневается, что у вузов (или государства) есть средства на внедрение этой системы.
Когда говорят о дистанционном обучении, обычно всегда возникает вопрос — а где гарантия, что «с той стороны», по ту сторону экрана, на энном удалении от преподавателя сидит именно тот самый человек, которого мы считаем своим студентом или учеником?
Напомню, что до того, как Рособрнадзор в 2014 году всерьез ужесточил требования к сдающим ЕГЭ, были случаи, когда этот экзамен одни люди пытались сдавать вместо других — старший брат вместо младшего, например, или друг вместо друга. То есть экзаменуемый приходил в пункт сдачи ЕГЭ, показывал чужие документы, садился и выполнял задания. И его не сразу «ловили».
Что уж говорить о тех, кто находится не в одном с нами кабинете, а за десятки, сотни, тысячи километров, как предполагается в случае с онлайн-обучением?
А ведь сегодня технологии искусственного интеллекта вышли на такой уровень, что даже обычный пользователь с помощью нехитрых манипуляций может изменить не только фон, но даже свою внешность и голос. И предстать на экране в виде Наполеона или Барака Обамы. Как же быть в такой ситуации преподавателям? Ведь одно дело — читать лекцию для условных Иванова, Петрова, Сидорова, которых ты знаешь. Совсем другое — общаться с «Цукербергами», «Масками» и «Джобсами». А как принимать у них экзамен?
Здесь даже Рособрнадзору показалось мало наличия в аудитории независимых наблюдателей и установленных видеокамер, под присмотром которых происходит сдача ЕГЭ. К делу привлекли нейросеть, настроенную на то, чтобы отслеживать подозрительное поведение экзаменуемых.
И еще нам говорят о том, что в вузе, где точно так же студенты пишут дистанционные контрольные и сдают экзамены, неплохо бы в каждом отдельном случае реализовать прокторинг. То есть пригласить людей, которые бы просто сидели у монитора и реагировали на сигналы искусственного интеллекта: смотрите, он повернулся не в ту сторону или полез в карман. Чтобы не машинным, а живым, человеческим умом распознать обман и не позволить студенту подглядеть в учебник или загуглить правильный ответ в интернете.
А давайте попробуем перевести всё это на язык цифр? Академический час стоит, допустим, 150 рублей. Следовательно, если в вузе учится 5000 студентов и у них преподают 20 предметов, необходимо потратить порядка 15 миллионов рублей только на то, чтобы кто-то сидел у компьютера и следил за каждым из студентов на экзамене.
Что получится в масштабах страны? Откуда, скажите, взять деньги на реализацию этого прокторинга? И где взять армию «прокторов»?
Словом, у университетского сообщества есть масса вопросов к нашим двум профильным министерствам. И не только касаемо прокторинга. Непонятно, как будет проходить процесс замещения программного обеспечения с иностранного на наше, отечественное. Хотя это мы должны сделать уже к началу следующего учебного года, то есть к 1 сентября 2024 года. В общем, много в этой схеме непонятного.
Вы находитесь в разделе «Блоги». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Иллюстрация: Hairem / Shutterstock / Fotodom

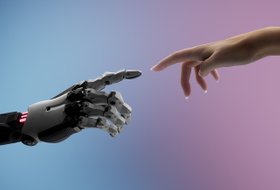

















Ответ на этот вопрос мог бы изменить аморальное состояние общества, в котором поголовная слёжка становится возможной, а выбор формы её осуществления оценивается через финансовые затраты.