Мирославе Романовой (имя изменено) 21 год, но она уже несколько лет работает логопедом-дефектологом в частных центрах и последние два месяца решила попробовать себя в качестве учителя в государственной школе-интернате. Мирослава рассказала нам о том, откуда у детей появляется агрессия, как родители могут помешать их развитию и почему нельзя работать с детьми с нарушениями здоровья людям без специального образования.
«Я со всеми буду заниматься, а с твоим сыном — нет»
— Где у кошки хвостик? А где у собачки?
На столе разложены разрезанные пополам картинки с животными, которые надо соединить по парам. С одной стороны стола — я, с другой — Даня, 13-летний мальчик с РАС и умеренной степенью умственной отсталости. Он вскакивает, хватает мою руку и тянет к себе. Мне больно, но вырваться не получается — у Дани рост 1,8 метра и 46-й размер ноги. Он царапает мою руку, кладет ее перед собой на столешницу и начинает с силой биться об нее головой. Я кричу: «Соня, помоги!» Соня — моя коллега, мы занимаемся в ее кабинете. Она подпрыгивает, хватает Даню, и он кусает ее руки, глубоко, от этих укусов на руках у Сони останутся шрамы.
Так проходили мои первые занятия в школе-интернате. Детям с РАС и умственной отсталостью свойственны агрессия и аутоагрессия: они не знают, как выразить свое недовольство по-другому. В целом я к этому привыкла, но Даня слишком крупный, чтобы я могла его удержать. Я ревела, звонила заведующей и просила перевести его к другому педагогу.
— А вот представь, что ты приведешь своего ребенка в школу и тебе учитель скажет: «Я со всеми буду заниматься, а с твоим сыном — нет».
— Но я не чувствую себя безопасно. Я говорила, что для меня самое важное — чтобы ребенок не был агрессивным.
— Меня тоже дети кусают до мяса, и ничего. Если откажешься от него, признаешь, что ты некомпетентная.
Конечно, Даня не хотел сделать мне больно. Он думал, что его прикосновения абсолютно безобидны, не осознавал их силу. Многих детей с РАС можно сравнить с космонавтами: на них словно надет скафандр. Им сложно передвигаться, они не ощущают свое тело и его границы и совершенно по-другому чувствуют. Так проявляется нарушение сенсорного восприятия — состояние, когда мозг неправильно обрабатывает информацию, которую получает от органов чувств. Дети дерутся, рвут на себе волосы, постоянно бегают, пляшут и тянут что-то в рот из-за нехватки ощущений — это называется «сенсорный поиск».
Когда они бьются головой об стену, им не больно, а даже приятно, потому что так они хоть что-то испытывают
Среди детей с сенсорными нарушениями есть и другие — те, кто находятся в «сенсорной защите». Они, наоборот, очень быстро перенасыщаются от разных раздражителей. Им тяжело слушать даже тихие мелодии, они вообще не переносят громкие звуки (поэтому постоянно закрывают уши), быстро устают от света и боятся до чего-то дотронуться.
Например, у Миши, другого моего ученика, аутизм и легкая степень умственной отсталости. Некоторые предметы даются ему совершенно спокойно. Допустим, на математике я объясняю, чем одна фигура отличается от другой, и Миша их чертит. Кратко рассказываю о Германии на уроке географии, и всё остальное время мы рисуем животных, растения, достопримечательности, чтобы их запомнить. А вот русский и литературу Миша терпеть не может. Даже когда я тихо читаю ему «Руслана и Людмилу» (в сокращении, конечно), он очень быстро истощается и к третьей странице уже сидит под столом и так трясет ногами, что весь кабинет ходуном ходит.
По-хорошему, чтобы детям было комфортно и я чувствовала себя более безопасно, в классе должна быть адаптированная среда: например, развивающие тренажеры для нейропсихологических разминок и одеяла с утяжелителями, которые помогают справляться с импульсивностью и состояниями аффекта. Мы же, по сути, занимаемся в условиях обычного класса в школе: есть только парты, шкаф и стол учителя. На большее в интернате финансирования не хватает — у нас нет даже пластиковых окон.
Почему-то государство больше обращает внимание на развитие именно в дошкольных учреждениях — детских садах и центрах. В интернате же весь акцент делается именно на обучении и получении аттестата. Будучи дефектологом, я выполняю функции школьного учителя: занимаюсь не коррекцией, а уроками. В интернате у меня три ученика, с которыми я работаю по надомной программе. Это значит, что им настолько сложно учиться, что они не могут находиться в классе, даже когда вокруг тоже дети с нарушениями — с РАС, умственной отсталостью или и тем и другим.
«У каждого педагога есть ребенок, и часто не один, который бьет окружающих»
Каждое занятие с Даней начинается с одинакового ритуала приветствия: я забираю его от мамы, и мы идем в кабинет, причем по самому неудобному маршруту. Поменять мы его не можем, потому что Даня привык к нему. Я открываю дверь ключом и обязательно жду, чтобы Даня ее толкнул. Садимся за стол, машем друг другу и задуваем свечку — Дане нравится именно это дыхательное упражнение. Важно, чтобы всё стояло на своих местах: если тетрадка сдвинута хотя бы на миллиметр или, не дай бог, лежит на другой стороне стола, он начинает драться. Родители часто списывают желание детей строить всё по цепочке, класть вещи на одно и то же место на перфекционизм, но это признак аутизма.
Я уверена, что, если бы мы с Даней начали занятие без нашего ритуала приветствия, урока бы не получилось. Детям с аутизмом очень важно постоянство. Если что-то изменить, даже незначительный шаг — срезать дорогу через траву, они будут сильно нервничать и не настроятся на контакт. Без четкой структуры ребенок теряется. Чтобы отработать что-то новое, надо сперва повторить всё, что было раньше, а потом потихоньку, плавно вводить дополнения.
Даня не откликается на имя, не знает, какие бывают цвета, и, конечно, не может осваивать школьную программу даже на самых начальных уровнях
Мы работаем с ним «рука в руке» — я вкладываю его руку в свою, и мы вместе выполняем упражнения по разработанной мной индивидуальной программе. У нас нет привычных уроков, сейчас наша главная задача — научиться реагировать на свет и звуки. Допустим, включили фонарик — надо повернуть голову, посмотреть на него.
«Даня, ты молодец! Идем заниматься. Всё хорошо». Раньше Даня занимался с другой учительницей. Она была очень строгой, и все их занятия строились на командах: «Сиди, делай, вставай». Это неплохо, но я попробовала немного другой подход — по системе Монтессори. За всё хвалю, успокаиваю, поощряю, радуюсь каждой его попытке, пусть и неудачной. Сперва я думала, что ничего не выйдет, но мягкое и теплое отношение оказалось Дане даже ближе.
Каждый день мы отрабатываем какие-то дефициты, выполняем задания на мелкую моторику, графомоторику, зрительное восприятие. Он обязательно должен порисовать, что-то обвести, поискать половинки, поставить кружочки и квадратики в нужные ячейки. В перерывах он стимит — делает повторяющиеся движения: трясет руками, ходит по кругу — это его успокаивает. Когда начинает биться головой об стол — всё, пора отдохнуть.
Какими бы бессмысленными ни казались такие занятия, они очень важны для поддержания развития детей. И самое главное даже не в самих уроках, а в том, что у ребенка есть возможность куда-то выйти, придерживаться каких-то правил, выполнять хотя бы элементарные упражнения.
Сейчас мы с Даней занимаемся более-менее спокойно, привыкли друг к другу. Мы даже больше не приглашаем на занятия маму — при ней он ведет себя хуже, чем наедине со мной. Я поняла, что должна сказать спасибо за то, что с остальными детьми в интернате мне проще работать. У каждого педагога есть ребенок, и часто не один, который бьет окружающих. Со временем это перестает казаться чем-то страшным.
«Многие родители не готовы раскрывать диагноз ребенка педагогам»
Перед первой встречей с девятиклассницей Мариной я знала о ней только то, что у нее легкая степень умственной отсталости. Тот факт, что Марина ездит в школу всего пару раз в неделю и учится индивидуально, а не в классе, мне объясняли неудобной дорогой от дома. Значит, забираю Марину от родителей, мы поднимаемся по лестнице, знакомимся.
— Марина, сколько тебе лет?
— Тут еж бежит, — она показывает в пустой угол.
Я ежа не вижу, но думаю: «Ладно, бежит и бежит». Проходим в класс, рисуем, общаемся. Марина снова смотрит куда-то мимо меня. Теперь она не просто говорит, а прям высказывает недовольство: «Почему это у вас по школе белки бегают?» Может, она шутит? Или правда видит кого-то за окном? Интернат находится на самой окраине города: вокруг лес, природа. Сперва мне становится немного жутко. Спустя 2–3 часа я потихоньку схожу с ума, слушаю Марину, и ее слова больше не кажутся мне таким бредом. Я уже будто и сама вижу, как по полкам прыгают белочки, а под партами прячутся ежики.
Позже меня вызывает медсестра. Она советует мне запросить документы об инвалидности Марины. Оказывается, у нее шизофрения. Многие родители не готовы раскрывать диагноз ребенка педагогам. В итоге я сижу, слушаю рассказы о лесных зверушках и не понимаю: это шутка, фантазии или структура диагноза? А главное — как мне с этим работать? Бывает, Марина болтает полтора часа без остановки: «Иногда я люблю ходить в школу, потому что на календаре осеннее время года и потому что мне снятся киты. Я их так сильно люблю, что мама иногда помогает мне по дому».
Раньше я никогда вживую не видела человека с шизофренией. Я училась на логопеда-дефектолога, и в университете мне не рассказывали об этом диагнозе. Элементарно: как реагировать на ее видения? Должна ли я прерывать ее поток сознания, или это всё равно что разбудить лунатика?
Сейчас такой диалог я даже могу поддержать. Правда, Марина тут же забывает, о чем только что говорила. А если бы я не знала о шизофрении и будь Марина помладше, я бы решила, что проблема в дефектологическом нарушении, и пыталась бы отрабатывать с ней причинно-следственные конструкции в речи.
Мне очень важно видеть полную картину о здоровье ребенка, чтобы выстроить грамотную программу, прогнозировать его развитие. В частной практике перед диагностикой я всегда отправляю родителям четкий скрипт: «Принести заключение от невролога, лора, педиатра и всё, что вы посчитаете важным». Когда родители платят за занятия, они очень заботятся о том, чтобы программа была составлена максимально корректно, поэтому приносят столько документов, что они не помещаются в одну папку. В госучреждениях почему-то все относятся к знанию о здоровье детей по-другому. Родители могут сообщить диагноз, только если захотят этого сами, а педагоги не имеют права даже спрашивать.

«Ты идешь работать в интернат? Зачем? А если это заразно?»
На втором курсе я проходила практику в детском реабилитационном центре. Мне нужно было наблюдать за занятиями одной воспитательницы. Она била детей, совершенно меня не стесняясь, и мне страшно представить, что происходило за закрытой дверью, когда она оставалась с ними наедине. Но я никогда не забуду, как она сама решила поставить диагноз мальчику.
Как-то она мне сказала: «Ты сейчас увидишь ребенка с аутизмом. Ты сто процентов это заметишь. Родители из-за упрямства не ведут к врачу — не хотят получить инвалидность». И вот она приводит за руку мальчика трех с половиной лет. Первое, что он делает, — смотрит мне в глаза. Значит, тактильный и зрительный контакт есть, на РАС не очень похоже. Мальчик тут же начинает что-то рассказывать: «Брлбрл, я пошла» — очевидно, услышал фразу мамы и не очень внятно ее повторил, не склоняя по родам. Это вполне нормально. Система запуска речи состоит из нескольких этапов: запуск звукоподражания, первых слов, предложения, фраз и грамматики.
— В чем у него, как вам кажется, выражается аутизм?
— Ты что, не заметила, что он род путает?
— Разве это не похоже скорее на признак задержки речевого или психического развития?
— Нет-нет, это только аутизм.
Я пытаюсь с ней спорить, но всё бесполезно. Вот она уже убеждает родителей мальчика, что у их ребенка аутизм, и мама сидит в слезах. Я до сих пор не понимаю, как человек может так уверенно пугать родителей, если у него даже нет специального образования.
Та преподавательница всего лишь прошла трехмесячные курсы по дефектологии
На самом деле меня очень волнует и беспокоит эта тема. Почему необученным людям позволяют заниматься с детьми с нарушениями здоровья? Мой опыт работы конкретно в нашем интернате — два месяца. Люди с 40-летним стажем обращаются ко мне за помощью и задают элементарные вопросы, связанные со структурой нарушения ребенка. Это совершенно необходимая теория, но они всё равно ее не знают.
К каждому ребенку нужен свой подход, и здесь ошибаться нельзя. Допустим, когда приходит ребенок с задержкой речевого развития, я веду себя как шут гороховый: «Ух ты! Смотри, это кто у нас? Собака! Аф-аф-аф!» Каждую секунду надо эмоционировать, ярко на всё реагировать. На занятиях с детьми с РАС, наоборот, надо говорить максимально односложно. Есть дети, которых ни в коем случае нельзя трогать. Они даже с родителями никогда не держатся за руку, не обнимаются, не целуются. И, наоборот, некоторые постоянно лезут ко мне, резко нарушают границы, потому что испытывают тактильный голод. Наверное, единственное, что совпадает на занятиях со всеми детьми, — я всегда должна быть на позитиве. Без разницы, есть у меня настроение, нет настроения, я улыбаюсь, отношусь ко всем с теплом, никогда не злюсь и поддерживаю ребенка, даже когда абсолютно ничего не получается.
Многим детям нужны коррекционные развивающие занятия — как их проводят, если в нашем интернате дефектологов с образованием — единицы? Никакой опыт не восполнит пробел в университетских знаниях — именно там человек получает всю нужную базу.
Обычно специалисты приходят к нам из общеобразовательных учреждений ради высокой зарплаты — в интернатах, коррекционных школах она, как правило, значительно больше. Многие получают корочку дефектолога по курсам, чтобы не выходить сразу на пенсию, а просто облегчить себе работу: вести уроки не у группы детей, а индивидуально и при этом получать надбавку.
Конечно, сказывается и нехватка кадров. Мало кто готов работать с определенными категориями детей
Ладно обычные люди, которые могут плохо разбираться в нарушениях здоровья, психике детей, но я слышала и от учителей обычных школ такие вопросы: «Ты идешь работать в интернат? Зачем? А если это заразно?» А возможно, кто-то действительно надеется, что на курсах сможет получить базовые знания и считать себя чуть ли не профессионалом — таким, что можно ставить диагнозы.
Называть диагноз имеет право только врач. Максимум, что могу я, как дефектолог, — объявить родителям основные дефициты ребенка. Например, в частной практике я действую по такой схеме: на диагностике ребенка обязательно должны присутствовать мама или папа. Я выдаю им таблички по возрастам, где написано, что должно быть сформировано у ребенка в год, полтора, год и восемь месяцев и так далее. Пока я общаюсь с ребенком, родители видят: «Ага, у нас коммуникация по такому возрасту, а мы старше». И потом я лишь могу посоветовать проконсультироваться у врача.
«Каким бы тяжелым ни был ребенок, родителей волнует только то, когда он заговорит»
— Вы знаете, я столько страшных видео в интернете насмотрелась! Якобы о признаках аутизма, но это же точно не оно!
Это говорит мама Ани. Ане четыре года, на диагностике у девочки началась истерика от попытки посмотреть ей в глаза — резкое избегание контактов. Она не может говорить, сидеть, концентрироваться, выполнять какие-либо просьбы и задания — совершенно нет произвольности.
— Судя по проявлениям признаков, вам все-таки стоит обратиться к врачу.
— Я же вам говорила, что Аня по гороскопу Лев! Я заказывала ей матрицу судьбы, и она показала, что Аня очень упертая, любит делать всё назло. У нее не аутизм, она просто из-за характера закатывает истерики.
Когда коллеги обсуждают, как им сложно работать с каким-нибудь ребенком, я вообще не чувствую то же самое. Я не могу вспомнить ни одного ребенка, с которым мне было бы прям тяжело. Даже к Дане я быстро привыкла и сейчас скорее получаю удовольствие от наших занятий. Его мама видит, что он начал открывать рот, когда к нему обращаются. Она верит, что он сможет разговаривать. В интернате я видела детей, которые заговорили только в 12–13 лет. Не хочу загадывать, но, может, чудеса случаются.
Мне тяжело не с детьми, а с родителями — почти все ищут волшебную палочку, ждут сиюминутных результатов и не слушают рекомендации. Сейчас 30–40% частных учеников приходят ко мне по рекомендациям с «Авито»: «Мирослава в кратчайшие сроки поставила нам речь!» Бывает, родители присылают фото ребенка, которого я ни разу не видела и не слышала, и спрашивают: «Как быстро получится поставить такие звуки?» Каким бы тяжелым ни был ребенок, родителей чаще всего волнует только то, когда он заговорит. Если за месяц мы научимся сидеть за столом, концентрировать внимание, откликаться на имя, они не увидят никакого прогресса.
Даже после диагностики предсказать, когда у ребенка появится речь, очень и очень сложно. Иногда приходят дети, у которых настолько хорошо сформирована база, что кажется, они не сегодня завтра заговорят. А потом выясняется, что на самом деле они очень медленно развиваются и ложное впечатление создается из-за очень усердной, кропотливой работы родителей и педагогов. А иногда приходит ребенок совсем слабенький и вдруг схватывает всё на лету — значит, дело не в задержке развития, а в педагогической запущенности.
Меня очень огорчает, когда родители говорят: «Мы готовы на всё! Будем заниматься, прислушиваться к советам, только скажите, что надо делать?» А потом я прошу их сходить к врачу, чтобы назначить медикаментозное лечение, и они отвечают: «Таблетки? Нет, это уже слишком». Я понимаю, что многим очень страшно признать, что со здоровьем ребенка что-то не так. Но еще хуже — видеть, как многие дети страдают из-за задержки развития просто потому, что родители, например, вовремя не признали их тугоухость и не купили слуховой аппарат.
«А почему он надо мной смеялся?»
Мы с Мариной идем по коридору, разговариваем. Мимо пробегает восьмиклассник вместе с друзьями. Он показывает на Марину пальцем и кричит: «Посмотрите, это та плакса, которая по маме скучала». Они смеются, всячески ее обзывают, и мне это кажется диким. Практически все нейроотличные дети постоянно сталкиваются с буллингом. Они не могут выйти на детскую площадку, потому что мамочки считают их заразными и просят своих детей с ними не общаться. Но как они могут к ним присоединяться и буллить точно такого же нейоотличного ребенка?
До шестого класса Марина по будням жила в интернате и училась в коррекционном классе. Она действительно плакала и просилась к маме, но тогда она была маленьким ребенком. В пубертатный период она при всех раздевалась и просила одноклассников трогать себя. Из-за такого поведения и ужасных издевательств родителям пришлось перевести ее на домашнее обучение.
Когда мы ушли от восьмиклассников и остались в кабинете одни, начать урок так и не получилось. Спустя семь минут занятия Марина развернулась ко мне, спросила: «А почему он надо мной смеялся?» — и расплакалась.
Во-первых, педагоги недостаточно хорошо объясняют детям, что буллинг — это плохо. Во-вторых, очень многие дети, которые учатся в интернате, стоят на учете в службе опеки или в ПДН. У большинства неблагополучные семьи: родители пьют, дети сбегают из дома, и воспитание, конечно, остается в пролете. И наконец, несмотря на нарушения здоровья, ученики интерната — всё те же подростки. Они точно так же страдают из-за гормонов, прячутся с сигаретами и электронками в туалете, объединяются в компании и буллят тех, кто им не нравится.
Марина быстро схватывает, отлично читает тексты и в следующем году будет поступать в колледж, чтобы стать отличной швеей, озеленителем или кем она захочет.
Многие сотрудники нашего интерната — его бывшие выпускники. Например, у нас работает охранник с РАС: он общается только заученными фразами. Если я задам вопрос, на который он не знает ответ, он ответит шаблоном, который больше всего подходит ситуации:
— Где библиотека?
— Вы, как сотрудник учреждения, можете передвигаться без сопровождения по территории всего здания, в том числе и библиотеки.
При этом он отлично справляется со своей задачей — охранять. Ни один человек на его месте не смог бы настолько четко, сконцентрированно следить за порядком. Работники с РАС очень ответственные: благодаря гиперфиксации они полностью погружаются в свое дело, не испытывают лени и досконально разбираются в каждой детали. Главное, чтобы педагоги обучили их важным умениям для самостоятельной жизни и родители не мешали этому.
Фото на обложке: © JuaniRuiz / Shutterstock / Fotodom












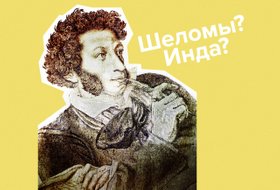






Читала в новостях, агрессивный мальчик инвалид крупный и сильный за игрушку начал душить девочку. Родители девочки и его мама не смогли разжать руки, по голове пинали, вообще ничего не помогало. Депочка так и умерла.