Мы попросили трех вузовских преподавателей рассказать, что их бесит в современных студентах. Жаловаться и ныть все трое отказались. Но почему спать на паре — норма, а ломиться в личку в нерабочее время — нет, — все-таки рассказали.
Что преподавателей особенно расстраивает в современных студентах
Леонид Колдунов, заместитель директора Физтех-школы физики и исследований им. Ландау (МФТИ):
Мои студенты в большинстве своем замечательные. Но иногда проблемы возникают, без этого никак. Самая острая из них — спорное позиционирование и потребительское отношение к обществу. Особенно часто видишь их, когда работаешь в приемной комиссии. Бывает, приходит абитуриент и говорит: «Ну, расскажите, что вы можете мне дать?». Вопрос, может быть, и логичный, правильный, но, что называется, в долгую он явно не приведет к каким-то позитивным результатам. Скажу больше, есть ощущение, что это в целом некоторая общая проблема зумеров. Далеко не всех, но проблема такая есть. Работать с человеком, который придерживается такой логики, я бы не хотел. Мне кажется, лучше исходить из других паттернов — спрашивать себя о том, в первую очередь, что мы можем дать этому миру, этой компании, этому делу. И лишь потом, осознав, чем мы можем быть полезны, начинать рассуждать о том, что мы получим взамен.
Алексей Егоров, директор студенческого офиса НИЯУ МИФИ:
Самое неприятное для меня — повторять одно и то же. Преподаватели в университете ведут один и тот же курс много лет подряд. Что может разнообразить этот «год сурка»? Ваш интерес. Когда студент выходит за границы программы, задает вопросы, участвует в конкурсах, соревнованиях, имеет позицию, спорит, достигает чего-то вне пар — вот тогда становится интересно. Кстати, это работает и в другую сторону — какому студенту интересен преподаватель, который не меняется год от года? Вот это постоянное развитие — совокупное движение вперед учителя и ученика — и делает интересной жизнь преподавателя.
Кристина Балашова, инспектор курса на факультете журналистики МГУ им. Ломоносова:
Это странно, смешно и грустно одновременно, когда спрашиваешь студента: «Вам 18 есть?» «Есть», — отвечают. Но почему же мне звонит ваша мама, когда вы со стипендии слетели? Я всегда, когда объясняю студентам, что это не дело, привожу довольно откровенную аналогию. Спрашиваю: «Вы когда в кино идете с девушкой или молодым человеком — у вас мама тоже на проводе или, может быть, вообще вместе с вами?» Ответ очевиден. В вузе всё как в любви — проблемы нужно решать без привлечения третьих лиц.
Об освоении учебной нагрузки
Леонид Колдунов: И меня, и коллег нередко нервирует элементарное студенческое нытье. Разумеется, иногда без него никак. Учиться у нас нелегко, и под конец семестра, в разгар сессии повыть на луну всем хочется, не только студентам. Это адекватная реакция на трудности. Но нытье в начале семестра, на этапе планирования нагрузки — штука, на мой взгляд, странная и просто-напросто непродуктивная.
Я часто сталкиваюсь с ним, когда планирую дополнительные семинары — которым, на самом деле, большинство студентов только рады. Материала много, времени мало, так что углубиться в нюансы без факультативов порой нереально. Нередко говорим: «Соберемся дополнительно». А в ответ слышим: «Что это такое вы развели? Зачем нам дополнительные занятия?»
Мы бы не обращали на это внимания, если бы не видели: нередко эти же самые студенты сетуют, что мы что-то недопрошли, что преподаватель не удосужился выделить время на дополнительное занятие. Откуда берется такое противоречие? Причина предельно проста: нам удобнее искать причины трудностей в окружающих и обстоятельствах, а не в нас самих. Хотя на деле причина нередко именно в нас. Об этом всегда полезно подумать.
Кристина Балашова: Хрестоматийные ребята с первой парты тоже нередко дезориентируют. Понимаю, когда много знаешь и всё прочитал к семинару, хочется сиять и по максимуму отбить эмоционально потраченные время и силы. Но надо быть сдержаннее. По ответам тех, кто активничает, преподы склонны делать выводы об общем уровне группы. И получая по ходу занятия комментарии в духе: «Мы это уже читали», «Мы это уже проходили» или «У нас еще в школе это было», — преподаватель начинает пропускать важные моменты — моменты, в которых большинство на самом деле до сих пор не разбирается. Меня такая реакция активных студентов вообще первое время ставила в тупик.
Быть умным — круто. Но в то же время и большой груз, ваш крест. И один из неприятных нюансов именно таков — иногда приходится ждать тех, кто от вас отстает.
Об уважении к преподавателям
Кристина Балашова: Одного нашего студента недавно вызывали на комиссию, он держал слово и заявил: «Я уже рассказывал эту историю… вот этой девушке». И показал пальцем на преподавателя. А «эта девушка» — уже не просто девушка, а доктор наук.
Или со мной вот был случай. Заходит студент в учебную часть, смотрит мне в лицо и говорит: «А, Кристины Александровны нет? Ну тогда я вам расскажу…» А Кристина Александровна есть. Это я.
Дорогие мои, давайте хоть иногда заходить на сайт вуза и смотреть, как кого зовут и у кого какие регалии, полномочия и так далее. Иначе станете героями анекдотов. Я уж не говорю об элементарном приличии.
Леонид Колдунов: В мой адрес такого не было, но в адрес коллег не раз замечал — пренебрежительное отношение к старшим. Как к возрастным преподавателям, так и к лаборантам. В то время, как на последних вся материальная часть обучения по сути и держится. Было бы правильно ценить и уважать их труд.
Когда я слышу, как студенты между собой «шутят» или неуважительно отзываются о преподавателях и сотрудниках вуза, — а такое, к сожалению, бывает (хоть и редко) — это вызывает у меня негатив.
О сетевом этикете
Леонид Колдунов: Мне удивительно было обнаружить, что современное поколение не умеет общаться в соцсетях. Это просто мрак. Порой культуры общения в Сети никакой, и ощущение, что по ту сторону чата — дикие люди.
К сожалению, почти каждые выходные со мной происходит следующее. 23:59 или около того. Мы с супругой смотрим фильм. Вибрирует телефон (кнопка «отправить без звука» — для слабаков). Смотрю: сообщение от студента. Он спрашивает, как подать заявление на какую-то стипендию.
Читаю и оставляю без ответа. Ладно, думаю, отвечу утром. Но тут студент увидел, что я был онлайн, увидел, что я здесь. И через пять минут что он сделает? Правильно: напишет мне сообщение, в котором будет один лишь чертов знак вопроса. Мол, а чего это вы меня игнорируете? Это просто мрак.
При этом зумеры почему-то убеждены, что миллениалы не умеют пользоваться мессенджерами, что мы темные в этом вопросе люди.
Это вообще не так, дорогие зумеры: мы шарим, и шарим больше вашего
В том же Telegram мы дольше вашего сидим и помним его совсем еще допотопным. Поэтому не стоит рассчитывать, что мы не знаем о существовании опции «Удалить сообщение». У меня и у коллег были случаи, когда студенты удаляли из переписки наши сообщения, чтобы убедить нас, что это не они прослушали наши инструкции, а мы ничего им не написали. Друзья… Это некрасиво, это старый добрый газлайтинг. Хватит.
А еще, к сожалению, студенты не умеют читать организационные тексты. Постоянно с этим сталкиваюсь. Опубликовал я, допустим, объявление — 10 строчек. Именно десять, не лист А4, а сообщение в Telegram. В нем есть исчерпывающая информация о том, что нужно сделать, когда, куда для этого пойти и зачем. Как бы мы ни были предельно точны в формулировках, нам обязательно прилетит вопрос, ответ на который можно найти, внимательно прочитав те самые 10 строчек:
— Вы объявление видели?
— Видел.
— Прочитали?
— Прочитал.
— Нет, вы не прочитали. Четвертая строчка сверху.
Хорошее дело — сперва прочитать, перечитать и лишь потом писать с вопросами. Так вы сэкономите время и нервы и себе, и нам.
Алексей Егоров: Сетевой этикет у студентов на сегодня практически отсутствует. Там надо совершенствовать всё! Но, если честно, он и у взрослых оставляет желать лучшего. Проблема в том, что в онлайне мы воспринимаем себя анонимными и, как следствие, ведем себя так, будто мы самые умные, и меньше думаем о последствиях написанного. Все отношения симметричны: дети берут пример с нас, а мы — с детей. Выход — работать над стандартами взаимодействия. Причем каждому — и студенту, и преподавателю — тут уместно будет начать с себя.
О конфликтах и субординации
Алексей Егоров: Субординация для меня — система отношений, где преподаватель принимает на себя ответственность за учебный путь студента. А студент берет на себя ответственность работать на свой максимум. Когда студент начинает объяснять преподавателю, как правильно учить, а преподаватель вместо того, чтобы учить, занимается чем-то другим — субординация рушится.
В остальном границы между преподавателем и студентом — дело вкуса. Если мы отказываемся понимать образование как услугу, то менее формальные отношения между учителем и учеником неизбежны и необходимы. Хороший преподаватель будет интересоваться широкой жизнью студента — потому что трудности, которые она преподносит, сказываются на том, как студент учится.
По мне, хамство, сквернословие — часть более сложных отношений учителя и ученика. Это не пренебрежение субординацией, а результат непонимания и слишком большой дистанции.
Кристина Балашова: Жалобы на преподавателя в учебную часть — вещь тонкая. Всё зависит от того, насколько сильно преподаватель перегибает палку. Если он не пришел на занятие — точно идите разбираться. Если дал почитать, на ваш взгляд, лишнего — будем честны, это не большая трагедия.
Что точно могу посоветовать — за первый курс осмотреться и понять, насколько учебная часть готова быть медиатором между вами и преподавателями. В одних вузах это что-то само собой разумеющееся. В других — непозволительная роскошь. В первом случае всё отлично: просите помощь и принимайте ее, но не беспокойте администрацию по мелочам. Иначе может случиться как с мальчиком, который кричал: «Волки!» Во втором случае… Не знаю, что вам посоветовать, кроме как учиться доносить свою позицию руководству через старосту.
Чего нельзя делать ни в коем случае — так это перепрыгивать через голову. Идти с проблемой сразу в деканат, а то и в ректорат
Тут дело не только в этике (хотя на какой-нибудь офисной работе вас за такой маневр точно не похвалят), а в процессуальной тонкости. Само руководство, скорее всего, не будет решать вашу проблему, а просто «спустит» ее обратно в учебную часть, туда, где ее на самом деле должны решать, — в руки людей, которых вы решили «перепрыгнуть». Так вы просто испортите с ними отношения. А вдруг эти люди окажутся злопамятными? Тогда вам не позавидуешь. В общем, идти «выше» можно, только если вы совсем уперлись в стену и вашу проблему на том уровне, где она должна решаться, игнорируют.
О спящих студентах
Алексей Егоров: Спящий на паре студент — не трагедия, а отличное поле для троллинга. И, будем честны, иногда на занятиях бывает так скучно, что преподу тоже хочется вздремнуть. Но об этом лучше никому не рассказывать.
Леонид Колдунов: Честно, меня вообще не нервируют спящие на парах студенты. Скорее всего, они ночь не спали, учились, устали, но на мое занятие даже через не могу пришли — и тут их срубило. Что поделаешь!
К тому же бывают студенты, которые спят, но всё слышат. Уникальные люди
Спящий студент — это даже забавно ведь. У меня в группе второкурсников как-то учился студент Василий. Он спал примерно всегда, мог заснуть даже на письменном экзамене.
На одном из наших семинаров он так крепко уснул, что мы решили его не будить. Подумали, что иронично будет, если он, заснув на втором, проснется на третьем курсе. После нашей группы в этой же аудитории как раз должны были заниматься третьекурсники, изучать теорию функции комплексного переменного. Мы тихо вышли из аудитории и попросили третьекурсников его не будить. Они согласились. Но вот их преподаватель эту идею не оценил, разбудил Василия.
Кристина Балашова: Я никогда не стану ругать студента за сон на моей паре. У меня другая технология: я просто обращаю внимание на происходящее, спокойно прошу прийти в чувство. И главным аргументом становится тут не то, что я обратила внимание на спящего, а то, что на него обернулась вся аудитория.
Об опозданиях
Кристина Балашова: Первое и важное: опоздание — это плохо. Но адекватный преподаватель не будет обращать внимание на опоздание, если: а) вы иногда, но не регулярно приходите к нему позже положенного; б) вы опоздали в рамках приличия (академическое опоздание — 15 минут); в) вы зашли в аудиторию адекватно своему положению.
Конечно, важно то, как вы зашли в аудиторию. К запыхавшемуся студенту точно отнесутся с пониманием. К студенту, который заходит вальяжно, в пальто на плечах и со стаканчиком кофе в руке — совсем по-другому. Это не рекомендация устраивать спектакль и специально сбивать себе дыхание перед тем, как зайти в аудиторию. Но коль уж вы опоздали именно потому, что не торопились, — не демонстрируйте это так уж явно.
Вообще, временные рамки в 15 минут придумали для преподавателей изначально. Сейчас всё чаще опаздывать так позволяют себе и студенты. Мы на это ропщем, но не ругаемся (у всех разные обстоятельства). Потому что есть такие опоздания, с которыми лучше вообще не приходить. Опоздали на час — несите за это ответственность как за полноценный пропуск, отдыхайте, ждите следующей пары и не сбивайте с толку преподавателя с одногруппниками, врываясь к ним за полчаса до конца занятия.
Обложка: © Alphavector / Shutterstock / Fotodom

ВУЗ
«Запрещать прогресс бессмысленно и неэффективно»: нейросети стали учиться за студентов — как с этим борются ведущие вузы мира

ИСТОРИИ
«Все вокруг как будто тупеют»: мы нашли студентов, которые не пользуются ИИ во время учебы, и поговорили с ними

ДЕНЬГИ
8 причин, почему вашей семье нужен закрытый онлайн-клуб
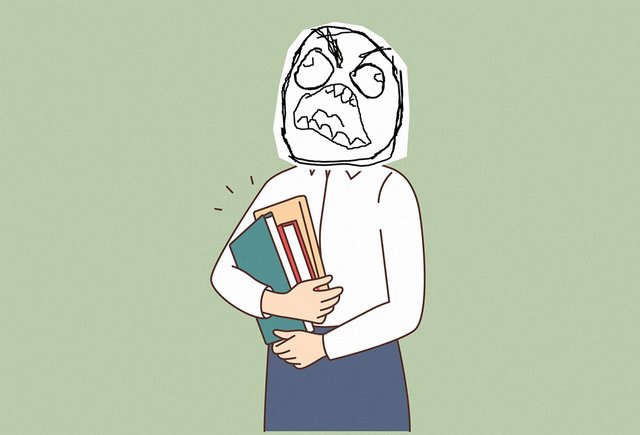









Сейчас тоже работаю в вузе, приходилось наблюдать, как студенты строчили жалобы на преподов и просили заменить, не нравились им методы преподавания или что-то такое. Были посланы, конечно же. Теперь им всё равно приходится иметь дело с этим преподом, но отношения максимально натянутые, мягко говоря.