Разрешите ребёнку не быть отличником

Мы часто говорим о том, как опасно (и несправедливо) вешать на детей ярлыки. «Троечник», «отличник», «умница», «бестолковый» — эти эпитеты, как правило, довольно умозрительны. Карина Куренкова призывает учителей и родителей дать детям право заниматься тем, чем им хочется (ну хотя бы в старших классах) вместо того, чтобы гнаться за хорошими оценками.
Кто-нибудь в этом мире знает, почему физмат-класс обязательно должен быть самым умным в параллели? И почему этот ум измеряется количеством медалистов?
Я училась в самой обычной школе в одном маленьком сибирском городке. Блестяще начав свой ученический путь в начальных классах, я постепенно начинала «скатываться», пока в восьмом классе не получила аж две тройки. Первую по геометрии (предмет, по которому через пару лет я успешно решала олимпиадные задачки), а вторую — по обществознанию (предмет, который я преподаю последние четыре года).
Тройки эти были судьбоносны, потому как им удалось до смерти напугать мою маму, которая незамедлительно перевела меня от беззаботных вэшек в класс к умным бэшкам, которые потом и стали носить звание физмата.
Бэшки были удачливыми людьми: их никогда не бросал классный руководитель, напротив — ими руководила Наталья Валерьевна, которая за своих всегда стояла горой. Наверное, поэтому им удалось выработать навыки тайм-менеджмента и успешного выполнения домашнего задания.
Они помогали друг другу учиться, класс тянул вперед авангард из пяти-шести отличников, к которым я и присоединилась. Гением среди нас семерых был только один, мой лучший друг, который действительно хорошо знал все предметы. Мы же работали по принципам, завещанным Адамом Смитом: гуманитарии решали контрольные для тех, кому лучше удавались точные науки, хим-био корпус страховали естественники.
Если в 9 классе это всё выглядело забавно, то в 10-11, когда на горизонте замелькали медали, мы подверглись ужасному прессингу. Нас таскали на каждую олимпиаду.
С нас требовали безукоризненного выполнения всех домашек, времени на которые почти не оставалось — ведь надо было готовиться к ЕГЭ
Началась пора жутких конфликтов с учителями, а особенно с классным руководителем, нервных срывов и семейных драм.
Мы вообще не понимали, зачем нам нужна эта медаль. Всё, что мы знали — нам нужно поступить в университет. Кстати, когда я поступила в МГУ, то узнала, что добрая половина бюджетников политфака — троечники по точным наукам и олимпиадники по профильным.
«Человек может вытерпеть всё, кроме бессмыслицы», — говорил, интерпретируя Ницше, один из моих любимейших преподавателей в Вышке. Это выражение очень подходит к ситуации с медалистами, да и ко многим другим аспектам нашей российской школы.
Поэтому теперь, когда я сама преподаватель, мне часто приходится объяснять ученикам и их родителям, что важно разрешить ребёнку заниматься тем, что ему нравится, хотя бы в последние два года учёбы в школе. Это будет и прагматично, и эффективно с точки зрения мотивации школьника.
Вчера смотрела выступление Юлии Гиппенрейтер. Она сказала, что если родитель будет закручивать гайки в учёбе, у ребёнка пропадёт всякое желание учиться. И я не знаю лучшего способа закончить этот пассаж, чем сослаться на эти её слова.
Фото: Shutterstock (Creative 007)















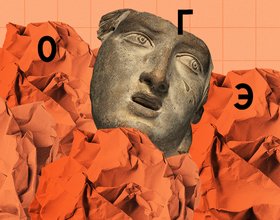
Я считаю, что медаль нужна. Отличники — ребята, которые так старались, стремились, готовились к этим экзаменам, не заслужили хоть такой маленькой, но очень долгожданной награды?! Почему они не имеют права получить этот знак отличия, хотя бы ради себя, ради своей самооценки? Почему не могут погордиться собой хотя бы один день, который так ждали?!