Арина С. (имя изменено) — логопед-дефектолог и преподаватель английского языка в коррекционной школе на Дальнем Востоке. Алина рассказала нам о том, как оторвать ребенка от выстраивания машинок в ряд, зачем на занятиях с глухими бить по столу и почему дружить с учениками нельзя ни в коем случае.
«Вот этим мы отличаемся от обычных школ»
Каждый наш урок начинается одинаково: после «здравствуйте» надо сказать «поздоровайся» — это обязательная фраза. Нельзя помахать, нельзя сказать жестом — дети должны именно проговорить приветствие, всё надо оречевлять. Потом я задаю вопрос:
— Какое сегодня число?
— Пятнадцатое марта.
— Ванечка, неправильно. Ответь, пожалуйста, полным предложением.
Ванечка отвечает, что сегодня не только 15 марта, но еще и четверг.
— Скажите, как вы меня слышите?
— У меня что-то с аппаратом. — Поправляем наушник или микрофон: на уроках мы используем звукоусиливающую аппаратуру.
Я закрываю лицо экраном — большой, обычно белой штукой, из-за которой видны только глаза. Моя задача именно на слух, без зрительного контакта, поймать внимание одного из моих мальчиков. Ловлю:
— Андрей. Андрей!
Андрюша должен услышать, что я его зову. Если есть реакция, убираю экран от лица. Если реакции нет, всё равно убираю экран и прошу прочитать по губам:
— Название урока — литература.
Андрюша не слышит. Обращаюсь к другому мальчику:
— Объясни Андрюше, что мы на литературе.
Очень важно вспомнить, какой предмет мы сейчас будем обсуждать, и произнести это. Если не повторять и не проговаривать, произношение очень быстро забывается. Дети часто путают и говорят «лера-кура», «ли-тура».
Когда мы наконец разбираемся с тем, что сегодня за день, кто кого слышит, какой у нас предмет и тема урока, заканчивается вступительная часть.
В конце урока то же самое:
— Какой сегодня был урок? Какая была тема урока? Кто был сегодня в классе?
Вопрос из разряда «Что вам сегодня понравилось?» уже достаточно тяжелый. Но у нас есть вспомогательные карточки. На них написано «мне понравилось, потому что…», «мне не понравилось, потому что…». Дальше ребенок сам пробует достроить предложение.
Вот этим мы отличаемся от обычных школ. Здесь дети учатся по общеобразовательной, но пролонгированной программе — два раза остаются на второй год, в четвертом и в девятом классе. Я веду коррекционные занятия для детей с первого по шестой класс и английский язык для старших, но начало и конец урока всегда одинаковые — лишь с небольшими изменениями в виде названия темы. Нельзя сказать: «Дети, угадайте, чем мы займемся сегодня» — и все случится, как по волшебству. Нет, ничего не случится, мы как минимум должны понять, где мы и что делаем.
Отличников среди детей с нарушением слуха я пока не видела
Конечно, они бывают, но это титанический труд, нужна огромная включенность педагога и родителей. Даже в той же математике, где вроде не требуется хорошая речь, тяжело понять условие задачи. Детям сложно прочитать, логически осмыслить и еще потом посчитать, чтобы дать правильный ответ.
Бывает, долго сидишь, серьезно готовишься к контрольной работе, подбираешь четкие формулировки, чтобы ребенку было всё понятно. А потом мы с ним ее решаем, выполняем задания про геометрические фигуры и доходим до последнего упражнения, где написано: «Сделай рисунок». Ребенок берет и рисует Чебурашку. Казалось бы, он знал, что мы на математике, мы только что изучили квадратики и треугольники, о которых и шла речь в задании. Но ему сказали нарисовать рисунок, он и нарисовал, что хотел.
«Когда дети отвлекаются, я тарабаню ногой по полу или бью рукой по столу»
Помню, я замоталась и написала на доске на уроке со старшеклассниками слово с ошибкой. Она какая-то глупая была, прям очевидная — в ясном уме я бы ее не допустила. Причем я ее увидела, но не стала стирать: «Ладно, может, не заметят». Но они заметили. Я дико испугалась (это был мой первый год работы), разволновалась и, конечно, решила упираться до победного. Произошла такая сцена. Дети доказывают:
— Вы ошиблись.
— Нет.
— Да.
— Нет.
Они открывают словарь. И как они только додумались так быстро полезть в словари? Показывают правильное слово, и я отвечаю:
— Так и было задумано! Самым внимательным — пятерки.
Весь урок я пыталась перевести тему и сделать всё, чтобы они забыли о моем фиаско. Думаю, дети поняли, что я, возможно, не совсем профессионал. Сейчас осознаю, что ничего страшного не произошло.
Всё бывает. Да, я ошиблась. Я могу один раз ошибиться? Зато сейчас это мой любимый прием привлечения внимания
Увлечь глухих и слабослышащих детей на весь урок очень и очень сложно. Что-то не расслышат и потом витают в своих мыслях. Писать с ошибками, чтобы они постоянно выходили к доске и исправляли, — гениально. Дети уже по одному моему взгляду понимают, что есть подвох, открывают словари и выискивают — это бодрит и оживляет. Кто-то исправляет за мной ошибку, но сам снова пишет неправильно, и его бежит исправлять другой ученик.
Для детей с нарушением слуха всё должно быть наглядно: всегда есть презентация с картинками, опорные карточки, интерактивная панель, на которой можно нажимать на правильные ответы и соревноваться с одноклассниками. Конечно, бывают исключения, когда мы проходим серьезную тему или готовимся к контрольной и работаем банально, по методичке. Но обычно я стараюсь строить уроки в игровом формате. Например, в конце года мы проводили неделю английского языка — так сказать, путешествовали по Англии. Каждое занятие меняли значимые места (Музей мадам Тюссо, Биг-Бен), изучали новую лексику, связанную с ними, расширяли кругозор и решали викторины.
В наших классах парты расставлены не в ряды и не в шахматном порядке, а буквой П. Это важно, чтобы дети видели педагога и друг друга. Когда они отвлекаются, я тарабаню ногой по полу или бью рукой по столу. Глухие не слышат самого звука, но чувствуют вибрацию. По партам звуковая волна распределяется равномерно, и они ощущают ее телом.
Однажды на нашем корпоративе очень тихо включили музыку. Помню, как я смотрю на глухую женщину, и тут она начинает кивать в такт музыке. Спрашиваю: «Как ты слышишь? Ты же без аппарата». Она берет мою руку и кладет ее на стол: «Чувствуешь?» А я вообще не чувствую, если честно. Видимо, у нас, слышащих, нет такой сверхспособности. Глухие спят без аппаратов, чтоб ушки отдыхали, но отлично просыпаются под вибрацию будильника. Они дергаются от стука в дверь. Они танцуют на дискотеках, ощущая бит колонок, — кстати, обожаю школьные дискотеки, они нас очень сплачивают.
«Когда ребенок орет, можно взять стакан и тоже в него заорать»
В нашем интернате учатся дети, у которых может быть не только нарушение слуха, но и РАС, ДЦП, умственная отсталость. Бывает, дети крушат всё вокруг, пытаются перевернуть парты, грубят, грозятся уйти из класса. Но, как правило, всё решаемо. Если дети с нестабильным эмоциональным фоном учатся вместе с остальными, их сопровождает тьютор. Его миссия — подружиться с ребенком, помогать ему выполнять задания. Детям с глубоким нарушением интеллекта мы предлагаем перевестись в отдельный класс, а коррекцией заниматься один на один, чтобы не мешать остальным.
После индивидуальных занятий в детском центре я часто ухожу с синяками, потому что в меня кидались тяжелыми игрушками, и с укусами на руках
Как-то я пыталась успокоить ребенка: обнять, положить в удобную позу — позу эмбриона. Он впился в меня до крови зубами, разулся, убежал и в истерике начал биться головой об стену. Дефектологи к таким моментам уже привыкли. Здесь главное — вовремя позвать на помощь родителя, воспитателя или тьютора. Иногда я даже прошу родителей оставаться со мной на занятии, чтобы ребенку было спокойнее.
Если ребенок настроен агрессивно и мы понимаем, что он может накинуться, самый простой инструмент — банальная подушка. Можно взять любую, чтобы дети могли ее бить, царапать, кусать, потоптать — в общем, срывать злость. Например, еще работая в детском центре, я приносила в класс старый пуфик из гаража. Важное правило: на этом пуфике ни в коем случае нельзя было спать, сидеть. Точно так же и подушку для битья нельзя обнимать, гладить, лежать на ней. Ребенок должен четко осознавать, что мы не бьем то, что любим, потому что такое поведение потом может проецироваться на людей.
Когда ребенок плачет и истерит, чаще всего надо обнять его сзади, посадить на попу, прижать ножки и чуть-чуть покачать
Обычно мы спрашиваем у родителей, что ребенку нравится, что его утешает. Это может быть зеркало — он увидит свое отражение, покривляется, сконцентрируется на себе и угомонится. Это могут быть игрушки, шарики, мыльные пузыри.
От крика очень спасает обычный стаканчик. Когда ребенок орет, можно взять стакан и тоже в него заорать. У ребенка тут же появляется интерес: «Что произошло? Как так?» Я подношу стакан к его рту, говорю: «Покричи, покричи», он кричит и слышит эхо. Это еще интересней. И вот мы пять минут кричим в этот стаканчик, но уже из любопытства, а потом находим что-то побольше. Я предлагаю: «Ой, давай покричим в ведро». В ведро покричали, опа — я надеваю его на голову. «А теперь ты», — очередь ребенка залезть в ведро. Всё, внимание переключилось. Здесь важна гибкость: если нас сейчас волнует ведро, надо придумать игры с ведром, у которых есть коррекционная значимость.
У детей с РАС есть стереотипия — они зацикливаются на чем-то одном. Таких детей увлечь еще сложнее, чем детей с нарушением слуха. Если ребенку нравится строить в один ряд машинки или кубики, оторвать его практически невозможно. Чтобы вывести его из этого состояния, я показываю, что кубики можно не только в рядок раскладывать, но и кидать. А еще можно сделать башенку. Потом плавно подключаю бумажку и кисточки: «Смотри, как я нарисовала твой кубик. Попробуй тоже».
Самое интересное и самое лучшее, что может быть в коррекционной работе, это когда видны результаты, когда у ребенка получается развиваться. Даже если кажется, что всё безнадежно, нужно лишь иначе посмотреть на проблему. Главное, чтобы родители не препятствовали педагогу. К сожалению, далеко не все умеют принимать правду, некоторым легче сказать: «С моим ребенком всё нормально. И вообще-то, вы слышите, он у нас считает до трех и знает, как зовут нашу кошку», — и запретить менять программу. Очень тяжело работать с ребенком и понимать, что ему еще можно было бы помочь, он мог бы получить профессию, мог бы стать успешным в будущем, но выбор всегда остается за мамой.
«Как дети, которые не знают алфавита, должны ориентироваться в сложных числительных?»
Был случай, когда мой старшеклассник никак не мог выучить лексику по английскому языку. Он прогуливал, не выполнял задания. В конце концов мне пришлось сказать: «Знаешь, мой дорогой, так дело не пойдет. Мне придется поставить двойку и вызвать твою маму». Реакция была бурная — он вспылил, покраснел, вскочил со стула и начал жестами возмущаться: «Вообще-то, я глухой, а с меня требуют, как с нормально слышащего человека. Мне тяжело, а вы этого понять не можете». Он начал собирать свои вещи, попытался уйти. В такие моменты самое главное — успокоиться. А потом — позвать классного руководителя.
Позже я объяснила ему: «Я не могу нарисовать тебе оценку. Требования и так минимальные. Если открыть программу, вы уже должны предложения строить и во всех временах ориентироваться». Через несколько дней он пришел с шоколадкой, извинился и пообещал, что к следующему уроку выучит всё. Абсолютно всё. И обещание сдержал. Помог воспитатель, который ответственен за то, чем дети занимаются во второй половине дня, — они вместе проделали большую работу.
Согласно программе, которую предлагает Институт коррекционной педагогики, ученикам надо владеть английским на уровне восьмого класса — то есть обычного, почти как в общеобразовательных школах. Это невозможно: глухие и слабослышащие дети в восьмом классе только начинают учить язык, у них впервые появляется такой предмет. Как дети, которые не знают алфавита, простейшей лексики и грамматики, должны ориентироваться в сложных числительных?
Мы даже отправили запрос в Институт коррекционной педагогики, чтобы разобраться в этих нестыковках. Ответ был такой: «Начинайте с азов». Ну мы с азов и начинаем. Естественно, соблюдаем темы, которые есть в программе («Мои друзья», «Мой день», «Мои школьные принадлежности»), но проходим их на самом простом уровне. Заканчиваем на днях недели и месяцах.
На самом деле людям с нарушением слуха изучать языки хотя бы на уровне грамматики очень полезно. Во-первых, развиваются нейронные связи. Во-вторых, закрепляется лексика родного языка, улучшается понимание построения предложения. Глухим и слабослышащим очень сложно грамотно выражаться на русском языке. Они упускают предлоги, союзы, склонения и прочее. Например, для них нормально сказать: «Я вчера была школа». Забавно, когда они путают единственное и множественное число. Сначала мы научили детей: «Вот картина — она одна, окончание „а“. Картины две — окончание „ы“». Вроде закрепили тему, всё отлично, а потом начинаем что-то вырезать, и ребенок говорит:
— Я держу в руках ножниц.
— Почему ножниц?
— Ножниц — он мой, он один.
Ребенок доказывает, что я неправа, ножниц правда один, а я просто неловко смеюсь и всё думаю: «Что же делать? Как же объяснить?»
Научить чувствовать язык очень сложно. На сравнении с английским можно глубже и детальнее осмыслить особенности русского языка, довести построение предложений до автоматизма. Конечно, это очень тяжело. Пока я видела только одного человека с нарушением слуха, который хорошо выучил английский язык. Это наш глухой учитель. Да, он не может свободно говорить, но письменная речь у него хорошая, он спокойно ориентируется в переводе.
«Глухие дети не считывают полутонов»
Дружеские отношения с учениками — это провал. В рамках школы это совсем неуместно. Для меня социальные роли нерушимы: даже со своим репетитором по английскому, своим ровесником, я общаюсь на «вы». Мы с детьми долго привыкали друг к другу. Они видели во мне вчерашнюю студентку, и мне было достаточно сложно выстроить с ними иерархические отношения. Я понимала, что переходить исключительно на крик — неправильно, да и бесполезно в нашем случае. Поэтому я просто спокойно и уверенно миллионы раз давала понять, что я учитель. Тут вот какая особенность: глухие дети не считывают полутонов. Не бывает черно-белого, беловато-черного. Есть только черное и белое. Поэтому я четко и понятно буквально доносила до них: «Я учитель. Я старше, я главнее, я выше. Вы должны меня слушаться».
Конечно, сейчас, когда мы уже привыкли друг к другу, мы можем пошутить, побаловаться, побеситься. Но всё равно, если они как-то напакостили (сорвали урок, не помыли полы, разбросали вещи), у них сразу глаза вниз опускаются, стоит мне зайти в класс. Они знают, что будет серьезный диалог, разбор полетов и наказание. В последний раз я запретила им ходить в магазин, в котором мы обычно закупаемся сладостями.
Люди с нарушением слуха иначе мыслят: их язык (жест) — упрощен, поэтому и общение упрощено. Наши формы вежливости для них тягомотны и бессмысленны. Соответственно, порой кажется, что они немножко грубые, невоспитанные. Они могут спокойно спросить у меня: «Сколько ты зарабатываешь?»
Они не понимают обходительности, не видят коннотаций вокруг слова, не считывают метафор, поэтому говорят в лоб
Я так же открыто и прямо говорю с ними, например о половом воспитании. У других детей это бы вызвало неловкость, а им привычно. Когда глухие общаются с незнакомыми людьми, которые быстро говорят, так что с губ читать сложно, не понимают их манеру общения, юмор, они замыкаются и отдаляются.
У меня замечательные дети, у нас очень хорошие отношения. Они говорят, что я им как мама, потому что на любой экскурсии, на любом мероприятии я всегда забочусь, чтобы у всех были шапки, шарфы, чтобы все были застегнуты, и неважно, что уже оттепель. Я слежу, чтобы все доели первое, очень прошу их попробовать компотик в столовой. Но мир глухих очень сложно понять.
Когда я только устроилась в школу, меня предупредили: «Ты никогда не будешь с ними так близка, как тебе бы хотелось. Они доверяют только своим». Если у моих детей возникнут проблемы, в большинстве случаев они обратятся не ко мне, к их классному руководителю, а к глухому учителю. Сначала мне было, наверное, обидно. Я хотела понять их, войти в их мир, но мне сказали: «Слышащие никогда не войдут в наш мир. Всё. Никогда».
Люди с нарушением слуха держатся вместе. Не зря у них есть целая организация — Всероссийское общество глухих. Там они знакомятся друг с другом, ездят на слеты, создают семьи. Бывало, я пыталась вывести одного из учеников на чистую воду ради его же блага, помочь ему, но он так и не раскрылся и сказал, что всё в порядке. Хотя было очевидно, что всё не в порядке. Я приняла это. Никогда не лезу, но даю понять: если что-то произошло, они могут мне обо всем рассказать, поплакать и обнять.
Кстати, люди с нарушением слуха, пожалуй, чересчур тактильные. В первые полгода работы я не понимала, почему они постоянно меня трогают. Я не особо люблю, когда меня касаются малознакомые люди, поэтому с порога заявила: «Да не надо меня трогать». Потом присмотрелись и поняла, что для них это нормально — компенсаторный момент. Допустим, если у меня потекла тушь, ребенок может подойти и слюнявой рукой мне ее вытереть. Теперь я, конечно, не оттолкну ребенка, когда он хочет со мной обняться. Никогда. Мы часто обнимаемся.
Со стороны глухие кажутся очень холодными и закрытыми. Пару лет назад они даже не поздравили меня с Днем учителя — просто у них это не принято. Но этим летом они приехали ко мне в школу, чтобы поздравить с днем рождения. Я была в шоке: у нас одна школа на весь Приморский край, некоторым нужно добираться до нее по пять-шесть часов. А они специально приехали, да еще и в каникулы, да еще и пораньше, с шарами, цветами, тортиками и подарками. Я тогда разрыдалась. Видимо, мы все-таки сблизились.
«Ты ограничишь себя коррекционной школой? Это плебейство»
Абсолютно каждый день, каждый урок я учу детей тому, что самое главное — быть человеком. Например, в Новый год прошу: «Пусть каждый скинет фото в чат, как он помогает маме сделать салат». В том, чтобы помочь близкому помыть и нарезать овощи, уже есть человечность. А я учусь у них восприятию жизни.
Для взрослых разлитый утром кофе может стать началом плохого дня. Если дети разольют кефир в столовой, они посмеются, пошутят, уберут за собой и забудут. Зачем переживать из-за того, что уже произошло? Дети родились со своим диагнозом. Они никак не могут его изменить, они не знают, как жить по-другому. В большинстве случаев они доказывают, что ничуть не хуже нормотипичных людей: получают высшее образование, становятся хорошими профессионалами, родителями.
Но ребята очень хитрые. Когда к нам в интернат приезжают волонтеры, они всеми силами пытаются показать, насколько же тяжелая у них судьба. Увидят слезы на глазах — можно надавить. Разумеется, поддаваться на манипуляции не надо. Жалеть людей с инвалидностью нельзя ни в коем случае. Никаких обходительных путей, никакой той самой гуманной педагогики.
Нет, надо требовать, надо заставлять прикладывать усилия, показывать им, что они могут больше и лучше, всё в их руках
Я всегда понимала, что буду либо педагогом, либо врачом. Стать педагогом было моей мечтой, а врачом — маминой. С 15 лет я на всё лето уезжала в оздоровительный лагерь в роли вожатой. Однажды меня попросили поработать на смене с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Первое, что я почувствовала, когда мы их встречали на вокзале Хабаровска, — отсутствие жалости. Все вокруг пускали слезы, им было тяжело, а я просто думала: «Интересно, как помочь таким детям?» Я тут же начала общаться с сурдопедагогом и сурдопереводчиком, которые их сопровождали. Они предложили мне чаще помогать им с детьми, и я ухватилась за эту возможность. С родителями детей тоже поладила. Обычно они очень агрессивно себя ведут: «Мы мамы инвалидов! Нам нужно это! Дайте нам то!» Всех это отталкивает, а я с первого взгляда поняла, какие они сильные. Ну конечно, они много требуют, им же трудно. Они герои.
В одиннадцатом классе я так и загуглила: «Профессия для работы с детьми с ОВЗ»
Первое, что выдал мне поисковик, — олигофренопедагог. Разумеется, я посчитала, что нашла свой путь. Сообщила эту прекрасную новость родителям и получила ответ: «Ты ограничишь себя коррекционной школой? Ты хоть понимаешь, что это такое? Это плебейство». В общем, меня заставили идти в медицинский. Но я не поступила и решила, что точно стану дефектологом. Пришлось полностью сепарироваться от родителей: переехать к молодому человеку и устроиться на работу официанткой и няней, чтобы оплачивать учебу. Уже в конце первого курса я устроилась в частный центр — после пар сразу ехала на практику. Пока мои одногруппники сомневались, пригодится ли им специальность, я ни разу за четыре года не планировала сворачивать с маршрута.
Мои родители начали понимать, что где-то просчитались, когда увидели, что моя подработка дефектологом полностью покрывает расходы на учебу, которая обходилась в 200 тысяч. Они не верили, что такое возможно, и всё спрашивали, чем я занимаюсь. Сейчас они вообще всё переосмыслили. Во-первых, мама открыла свою школу. Каково же было ее удивление, когда она увидела, что спрос на логопедов в четыре раза больше, чем на учителей английского языка.
Родители думали, что коррекционная школа — это что-то постыдное, типа ПТУ, что для этого не нужно высшее образование. Когда они осознали, насколько профессия дефектолога востребованная, сколько нам платят, извинились и признали, что были не правы.
А для меня мой опыт стал показательным: теперь я часто прислушиваюсь к детям. Порой они разбираются во многих вещах чуть больше, чем взрослые. Во-вторых, в моей жизни появился блог. Там не так много подписчиков, но я активно развиваюсь в этом направлении, людям интересно слушать о моей профессии. У меня уже есть своя клиентская база детей и родителей, которые мне доверяют.
Универ я окончила с красным дипломом, и меня пригласили в коррекционную школу. У меня нормальная нагрузка, хороший коллектив и отличная зарплата. С того момента, как я поступила в универ, и до этого дня коррекционная педагогика — это то, на что нацелен весь мой фокус, мой главный интерес. Я ни разу не пожалела о своем выборе.
Обложка: © Re_sky / Shutterstock / Fotodom
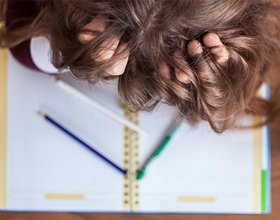
ПРАВО
Дочери с ОВЗ не предоставили адаптированную программу и оставили ее на второй год: что делать? Отвечает методист Ольга Калиниченко
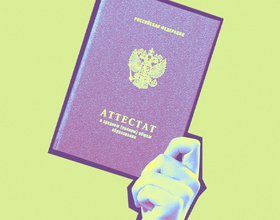
ПРАВО
Может ли ребенок, окончивший коррекционную школу, получить не справку, а аттестат? Отвечает юрист Анастасия Громакова

ИСТОРИИ
Вместо работы в школе: учительница из Новосибирска — о бизнесе, который она развивает на Ozon













