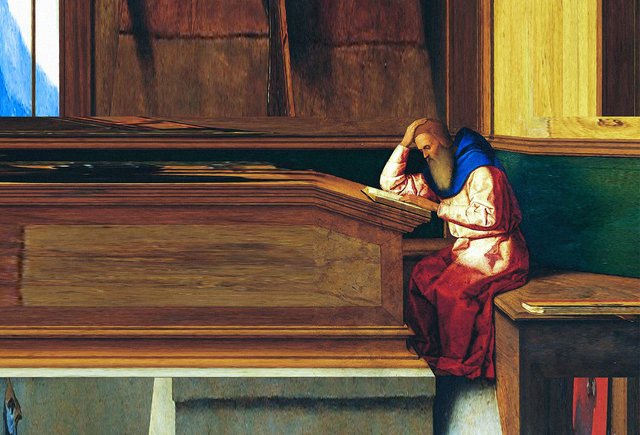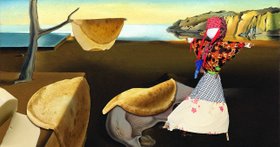На самом деле смертных грехов было не семь, как принято считать, а восемь. Об этом и многих других удивительных фактах в книге «Тысячелетнее царство. Христианская культура средневековой Европы» рассказывает медиевист и научный руководитель проекта «Страдающее Средневековье» Олег Воскобойников. С разрешения издательства «Альпина нон-фикшн» публикуем отрывок из нее — про любовь.
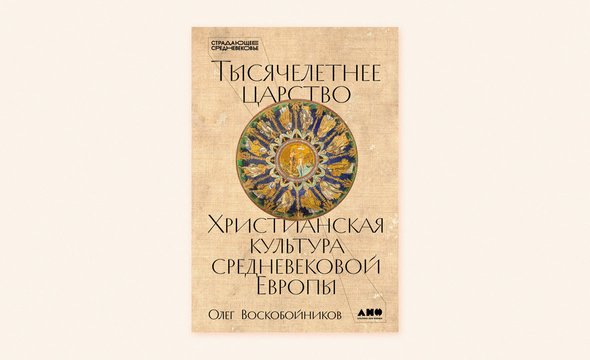
Все понимали разницу между caritas и amor — любовью духовной и телесной. Вторая, обозначавшая в том числе и возвышенную куртуазную любовь, не была бы возможна в обществе, если бы у нее не было благородной сестры — христианской любви. Следует сказать несколько слов о сложившихся между сестрами отношениях.
Одновременно с появлением поэзии на новых языках, в XII в., в Европе становится исключительно популярным идеал fine amor, что можно условно передать как «тонкая», «чистая», «истинная» любовь. Она стала одной из важнейших составляющих кода поведения идеального рыцаря при идеальном же феодальном дворе. Подчеркнем: идеального, ибо реальность, как всегда, могла быть намного проще и приземленнее, чем то, что представляли слуху придворных рыцарские романы, любовные поэмы трубадуров и эпосы. Без идеалов, правда, не обходится ни одно общество.
Очень по-разному понимали эту чистую любовь. Для многих рыцарей она представляла собой беззаветную преданность и безусловное, бескорыстное служение прекрасной даме, жене своего сеньора, то есть по определению недоступной. Ради нее совершались всевозможные подвиги, ей посвящались победы на турнирах. Это бескорыстие могло, впрочем, получать воздаяние в виде благодарности, в том числе материальной, от супруга прекрасной дамы. Ведь слава подвига, посвященного его прекрасной половине, дарила часть своего света и ему. На fine amor могли претендовать и супруги: не следует думать, что брак в куртуазной культуре не имел никакого отношения к любви.
Вместе с тем самые красивые истории о куртуазной любви из цикла о короле Артуре и рыцарях его Круглого стола являют нам примеры вполне корыстной куртуазной любви. В многочисленных романах о Тристане и Ланселоте рассказывается об адюльтере: плотской любви между Тристаном и Изольдой, женой его сеньора, короля Марка, и между Ланселотом и Гвиневерой, супругой короля Артура. Основа сложного морального конфликта, страстно переживавшегося светским обществом на протяжении нескольких столетий (XII–XVI вв.), состояла в том, что и Ланселот, и Тристан были идеальными рыцарями.
Идеальный рыцарь верен — верен! — своему сюзерену. Но идеальный рыцарь как бы обязан обожать его супругу. Это обожание, достигая своего пика, под влиянием магического зелья (как в случае с Тристаном) или без оного (у Ланселота) перерастает в страсть и прелюбодеяние.
Неверность своему сеньору, как мы помним, — страшный грех. Христианская мораль, естественно, осуждает ее. Общество разрывается между симпатией к отважному Тристану, к прекрасной добродетельной Изольде и осуждением их плотского греха, который они скрывают от обманутого мужа, упражняясь в обманах и хитростях.
Но ради этой запретной любви рыцарь не только сражается на турнире, чтобы покичиться своей силой. Он преображается под ее влиянием, точно так же как христианин преображается под действием христианской любви, как Данте, в поисках настоящей любви прошедший все три потусторонних царства. Ланселот, глубоко верующий христианин и едва ли не лучший рыцарь Круглого стола, чтобы очиститься, отправляется на поиски великой реликвии: Святого Грааля, чаши с кровью Христа. После долгих приключений он достигает замка, в котором она хранится, но не может лицезреть святыню, ибо осквернен смертным грехом.
В конце Средневековья, например в «Смерти Артура» Томаса Мэлори (конец XV в .), эта неудача воспринималась уже как настоящая трагедия всего рыцарства. Увядание символики, разочарование в высоких идеалах, понимание их несовместимости с христианской моралью — всё это предвещало скорый уход со сцены средневекового рыцарства, его историческое преображение в наемника.
Характерно, однако, что в XII–XIII вв. и вероучительная, и куртуазная литература зачастую в схожих выражениях описывала духовное содержание amor и caritas. Богословы много рассуждали о добродетелях и о главной из них — любви.
Светское общество пыталось кодифицировать и примирить с общей моралью свои представления о мирской любви
Культ прекрасной дамы распространился одновременно с новыми яркими формами культа Девы Марии, и этот параллелизм не случаен. В 1184 г. появился специальный посвященный этому латинский «Трактат о любви» Андрея Капеллана. Около 1200 г. в Англии появилась латинская дидактическая поэма в 3000 строк Urbanus magnus. Вольно и несколько анахронистично можно было бы передать это название как «Великий денди», ближе к лексике того времени — «Большое пособие по вежеству»: urbanus значит не только «городской», но и «учтивый», «куртуазный человек». Куртуазность же в русской литературной традиции иногда называют вежеством.
Что бы ученые ни говорили о происхождении и значении куртуазной любви как литературного и историко-культурного явления, о важности ее как проявления светской культуры зрелого Средневековья, христианская caritas была ее старшей сестрой. Иначе Данте никогда не посмел бы завершить «Комедию» знаменитой строкой:
Любовь, что движет солнце и светила.
L’amor che move il sole e l’altre stelle.
Система добродетелей и грехов менялась вместе с обществом. Традиционные схемы, восходившие ко временам Отцов, по-прежнему хорошо известные и почтенные, уже не отвечали усложнившейся социальной, политической и экономической реальности. Взять хотя бы семерку смертных грехов.
В V–VI вв. Иоанн Кассиан и Григорий Великий представляли себе иерархию из восьми грехов, где гордыня главенствовала над семью остальными:
- тщеславием (vanitas),
- завистью (invidia),
- гневом (ira),
- ленью (pigritia),
- алчностью (avaritia),
- чревоугодием (gula),
- сластолюбием (luxuria).
В XIII в. алчность, грех скорее «буржуазный», явно оспаривает пальму первенства у гордыни, греха по преимуществу «феодального».
Никак нельзя понять этого, если не учитывать возросшую роль денег и торговли в хозяйственной жизни, новое значение городского торгового сословия, представители которого возлагали на материальное богатство свои надежды на общественное признание. Неслучайно также, что с XIII в. осуждение алчности все чаще превращается в суровое проклятие ростовщичеству, ибо ростовщик, давая деньги в рост, торговал тем, что ему не принадлежало, божественным достоянием — самим временем.
С меньшей очевидностью, но все же достаточно уверенно другие грехи также получают новое содержание. Уныние (асеdia), то есть недостаток упования на милость Божию, отчаяние, всегда бывшее сугубо монашеским грехом, препятствием на пути к совершенству, в XIII в. приходит и в мир, становится болезнью светского общества, вбирает в себя все грехи и грешки, связанные с ленью и праздностью.
Петрарка, бичуя в себе этот грех, стремился одновременно сублимировать необходимую ему для творчества «праздность» в «досуг» (otium). Чем не Бодлер с его культивированием своего не менее творческого, богемного spleen? Чем не ренессансный художник, «дитя Сатурна» и меланхолик? Знакомый нам «сплин», буквально — «селезенка», далекий потомок медицински объяснимой меланхолии, в свою очередь, восходившей к средневековой асеdia. Ничего удивительного, что в деловитом и хватком XIII столетии асеdia иной раз виделась матерью всех грехов.
Общество меняло само отношение к земному времени и к тому, как его следует тратить. Не забывая о Судном дне, оно начинало ценить и земные минуты, часы, дни. Сладострастие всегда было на особом счету у проповедников, но с XII в. нападки на него усиливаются, поскольку новые учения о браке, возникшие в лоне Церкви, навязали светскому обществу и новые правила сексуального поведения, фактически ограничив сексуальность в семейной жизни необходимостью размножения. Развивалась новая этика семьи, которая точно описывала права и обязанности каждого члена этой, как сейчас говорят, «ячейки общества».
Зависть также получила новое содержание за счет одной из своих ветвей — злословия. Это объясняется характером средневековой культуры, в которой огромное значение имело устное слово. Особое внимание к слову, осознание опасностей, которые оно несет, если употребляется неправильно, привели к появлению в XIII в. особого греха, занявшего почетное место рядом с семью смертными, — «греха языка». Под ним подразумевали все ошибки и преступления, которые мы совершаем с помощью слов: богохульство, ложь, лесть, ругань, злословие и оскорбление.
Обложка: © Rawpixel.com / Shutterstock / Fotodom