В 2019 году ЕГЭ отмечает десятилетний юбилей. Мы поговорили с человеком, которого часто называют «отцом» ЕГЭ, — бывшим главой Рособрнадзора Виктором Болотовым. Сегодня он научный руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ. Виктор Болотов рассказал «Мелу», как школа должна готовить к ЕГЭ, почему должно измениться содержание экзамена, а пятибалльная система оценок не работает.
Какие выводы к десятилетию ЕГЭ вы сделали для себя? Довольны ли вы проделанной работой?
Во-первых, насколько это было возможно, экзамен себя оправдал. Напомню ещё раз: цель единого экзамена (и это прописано во всех документах) — повысить доступность качественного высшего образования для детей из удалённых регионов, для детей из семей с низким социально-экономическим статусом, которые не могут тратить деньги на пробные поступления. И статистика Росстата, и наши исследования показывают, что процент иногородних студентов в Москве и Петербурге вырос по сравнению с тем, что был на момент введения эксперимента по ЕГЭ, почти в три раза.
Это не пиар, это статистика. Число детей из семей, которые не послали бы ребёнка поступать в вузы Москвы и Санкт-Петербурга по финансовым причинам (поехать из Владивостока, или Хабаровска, или даже Екатеринбурга на вступительный экзамен в столицу, в общем-то, недешёвая история), выросло. Поступит или не поступит — ещё вопрос, а деньги уже потрачены. В этом смысле сверхзадача, которая ставилась перед ЕГЭ, решена.

Вторая задача, уже более техническая, отрабатывалась в рамках эксперимента, её решение мы довели до приемлемого уровня, — это создание самой технологии проведения ЕГЭ. В России девять часовых поясов, поэтому вопросы на экзамене на Сахалине нельзя использовать в Калининграде. При этом 50 баллов в Калининграде и 50 баллов в Южно-Сахалинске должны быть эквивалентны. Это не простая психометрическая задача. И мы с ней справились. То есть с технологической точки зрения единый госэкзамен тоже состоялся. Это не только наше мнение, но и многих зарубежных экспертов, уверенных, что у нас высокотехнологичная процедура экзамена. При том, что таких проектов в мире нет нигде. Говорить, что мы скопировали систему, могут только люди, которые вообще не разбираются в этом вопросе.
Недавно ЛДПР опять заявила, что мы скопировали ЕГЭ с американского теста SAT. Они не понимают, о чём пишут
В SAT используются только вопросы с выбором ответа. А у нас перегнули палку и совсем убрали такие вопросы, что я считаю неправильным. В международных сравнительных исследованиях, в которых Россия всегда участвует, обязательно содержатся вопросы с выбором ответа. Нельзя, чтобы тест состоял только из них, но они решают свою задачу: скажем откровенно, они очень нужны ребёнку, который не собирается поступать в вуз, а просто хочет получить аттестат. Ему, конечно, гораздо проще выполнять задания с выбранным ответом, чем открытые. Он не наберёт 100 баллов, но свои 30 может получить за счёт теста. Почему мы затрудняем сдачу ЕГЭ этим детям, я не очень понимаю. Об этом я говорил уже неоднократно.
А какова аргументация за отмену тестовой части?
Они говорят: «Мы против угадайки». А я говорю: давайте просто посчитаем, какова вероятность угадать один из четырёх вопросов? А если таких две задачи? На самом деле набрать много очков на «угадайке» невозможно. Кроме того, посмотрите на все конкурсы, которые идут по зомбоящику: там везде вопросы с выбором ответа, и что? Много там выигрывают? Нет!
Потому что, если вопрос с выбором ответа сделан хорошо, «угадайка» не помогает. Ты либо знаешь, либо не знаешь. Это, на мой взгляд, дешёвое оправдание, потому что на самом деле сделать хорошие вопросы с выбором правильного ответа — это трудно. Думаю, поэтому их и отменили.

Как менялось содержание экзамена за эти десять лет и что будет дальше?
Вот тут нам предстоит очень много дел. Как начинался ЕГЭ? Школы сдавали выпускные экзамены по предметам, вузы проверяли знания в рамках школьных программ и стандартов. Мы были обречены на предметную ориентацию: знать теоремы, формулы, учить произведения и так далее. Хотя в мире достаточно много тестов, которые проверяют владение теми или иными компетентностями.
Мы шли сугубо от изучения предметов. При этом Россия участвует во многих международных исследованиях, где проверяются не только предметное знание, а различные виды грамотности. Под грамотностью понимается не орфография и пунктуация, естественно, а способность создавать и понимать тексты, пользоваться ими. Проверяется математическая грамотность: не только знание теоремы, а умение использовать их при решении задач. Или, например, критическое мышление и креативность. Мы же продолжаем в основном проверять предметную часть. Президент поставил нам задачу войти в десятку лучших стран по качеству школьного образования. Это значит, что наши экзамены должны соответствовать международным требованиям.
То есть сейчас есть задача интегрировать условные soft skills в ЕГЭ?
Безусловно. Работодатели объявили, что для успешной и эффективной жизни в XXI веке необходимы 4К: коммуникация, коллаборация, критическое и креативное мышление. Понятно, что в быстро меняющемся мире третий и четвёртый пункты нужны позарез, а для того, чтобы быть успешным в жизни, надо уметь договариваться с другими — для этого нужна и коммуникация, и умение сотрудничать. Всё это накладывает требования к измерительным материалам. Пока на этот вызов у ЕГЭ ответа нет.
До сих пор мы продолжаем двигаться в основном в предметной парадигме, хотя Федеральный институт педагогических измерений собирается через год выходить на новые поколения тестов ЕГЭ. Они обещают быть более ориентированными на практику: появятся задания, для выполнения которых требуется владение некоторыми гибкими навыками.
Сейчас главное направление в усовершенствовании ЕГЭ — создание нового поколения измерительных материалов, соответствующих современным требованиям и трендам, которые закладываются международными исследованиями. В нацпроекте по образованию прямо указано, что мы должны оценить качество образования в соответствии с международными трендами.

Что будет происходить с ЕГЭ дальше по вашим прогнозам?
Я думаю, что лет через десять никакого ЕГЭ не будет. На мой взгляд, система должна выглядеть так: если я хочу получить школьный аттестат, я сдаю выпускные экзамены — тесты по математике, русскому языку и истории. Я сдаю всё это в школе с участием внешней комиссии. И в качестве результата получаю бинарный ответ: освоил я стандарт или не освоил, знаю историю России и мира или нет. Этого хватит для аттестата.
Кто из работодателей смотрит на приложение к аттестату? Никто. Красный диплом ещё более или менее учитывается, а на всё остальное всем, в общем-то, наплевать
Но при этом на базе центров проведения ЕГЭ, которые есть в каждом субъекте федерации и в каждом муниципалитете, будут созданы независимые центры тестирования. Я прихожу туда и говорю, что хочу получить сертификат по уровню владения математикой, физикой или русским языком. Я сдаю экзамен и получаю сертификат со своими баллами, который действует, например, три года, как сейчас результат ЕГЭ. Или я прихожу и говорю: «Проверьте меня на развитие критического мышления». В итоге я получаю набор сертификатов — и уже с ним могу идти или сразу на рынок труда, или в любой вуз, которому нужно именно эти сертификаты, а не другие.
Тогда не будет никакой «обязаловки»: сдают на сертификат те, кому это нужно, сдавать можно в любое время, хоть в 50 лет, хоть в 100, хоть в школе. Тем более, цифровое пространство принципиально меняет школу: идёт массовая деинституализация в школьном образовании, всё больше детей получают образование либо дома, либо вообще неформально. В этом плане ЕГЭ просто отомрёт. Но не в ближайшие несколько лет.
Мы запустили на «Меле» большой проект про подростков, и они говорят, что сегодня процесс подготовки к ЕГЭ и школьная программа всё ещё не синхронизированы. Они отдельно готовятся, платят деньги репетиторам. Что с этим делать?
Но при этом министр и куча так называемых экспертов утверждают, что в школе перестали учить и только натаскивают на ЕГЭ. На самом деле и те, и другие говорят не совсем правду.
Задолго до введения ЕГЭ в Москве и городах-миллионниках была практика так называемого «свободного посещения школ», когда родители договаривались о том, что их дети не будут ходить на уроки, а только сдавать экзамены. Это было узаконено в нормативных актах. Дети вместо уроков ходили на подготовительные курсы в тот или иной университет. Иногда деньги носили, иногда подарочки, а иногда просто так — по дружбе. Учителю проще, когда в классе пять человек, а не сорок. Поэтому практика натаскивания к вступительным экзаменам была всегда — и в советские времена, и в постсоветские.
Как только появляется какое-то испытание с высокими ставками (а ЕГЭ — такой экзамен), тут же появляются репетиторы
Во всём мире, вне зависимости от того, есть ли национальный экзамен или нет. В советские времена не было никакого тестирования, но невозможно было поступить в хороший вуз без репетитора. Это известный факт.
Теперь второй важный момент: а можно ли набрать сто баллов по математике, не зная математики? Никакие угадайки тебе не помогут, никакие техники сдачи экзамена тебя не спасут. Либо ты знаешь эту математику, либо не знаешь. Лучший способ натаскать себя к ЕГЭ — это решить тысячу задачек по математике, потому что никто не знает, какая тема тебе попадётся в экзаменационном билете. Можно ли назвать это натаскиванием к ЕГЭ? Конечно. Но, с другой стороны, это изучение предмета. Ну да, дети решают больше задачек, но хорошо это или плохо? На мой взгляд — нормально. Самое важное — не просто выучить теорему, но и научиться применять её на практике.
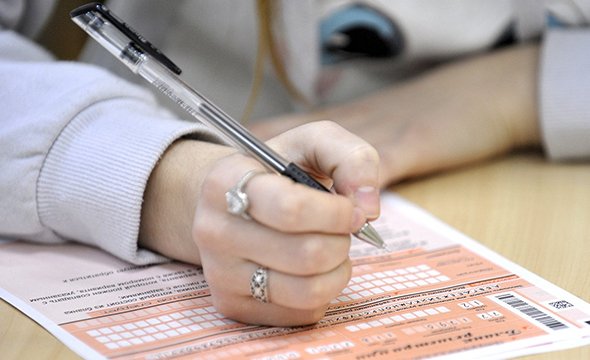
Как вы думаете, условный ребёнок, который получил эти 100 баллов, — и обладает знаниями, и умеет их применять?
По естественным предметам — да, и знания, и умение их применять. В условиях эксперимента мы сверяли списки стобалльников и призёров олимпиад — и это оказалось почти одно и то же.
С гуманитариями всё обстоит несколько хуже. По обществоведению, например, есть трудности с самим предметом. Туда же запихали всё: и право, и философию, и социологию. Чего там только нет. В результате, конечно, получился не очень жизнеспособный монстр. Там сто баллов — даже не знаю, что это означает. Умеет ребёнок пользоваться этим в жизни или нет — непонятно.
Какой уровень подготовки к ЕГЭ должна гарантированно обеспечить школа?
Когда я был начальником Рособрнадзора и мы вводили ЕГЭ, я получал жалобы, что школа не гарантирует получение 100 баллов. Да, не гарантирует и не может гарантировать. Высокие баллы — это, как правило, дополнительная работа школьника либо с репетиторами, либо с родителями, либо с интернетом. Но это всегда дополнительная работа. Так же, как школа не готовит призёров всероссийской олимпиады. Школа, на мой взгляд, должна гарантировать выход на 75 баллов ученикам, которые хотят и могут учиться. Если ты способный и трудишься, знаний, полученных в школе, будет достаточно, чтобы выйти на пятёрку в аттестате, но не на 99 баллов. Но школа должна гарантировать другое: если ты хоть как-то стараешься, то получаешь удовлетворительную оценку — тройку в аттестат.
И она это делает? В целом по стране?
Средняя температура по больнице нормальная. Но при этом 75 баллов в элитной школе с селективным набором, когда заранее отбирают способных детей, — это позор. Там хороший результат — 95 баллов и выше. А для сельской местности в сложном микрорайоне, с низким социально-экономическим статусом родителей, где нередко детей воспитывают мамы-одиночки с минимальным образованием, 40 баллов — это уже золото. Поэтому надо разбираться каждый раз с социокультурным контекстом. Если школа работает в сложных условиях, говорить, что она должна гарантировать 75 баллов — это нечестно. И те подростки, которые обижаются на свою школу…
Представьте: у учителя 30-40 детей в классе. Часть детей не хочет учиться, часть детей — талантливые, которым даёшь задание со звёздочками. Но работает учитель с массой, среднячком
В этом смысле, конечно, распространённая идея о том, что мы должны всех детей устраивать в вузы, — порочный миф.
Дети уже начинают выбирать систему профессионального образования после девяти классов. Мы проводили много опросов по этому поводу: далеко не все из них просто сбегают от ЕГЭ, просто они хотят раньше стать независимыми, самостоятельными, хотят зарабатывать себе на хлеб. Этим детям не нужно 100 баллов по математике и физике, они могут руками работать. И в этом нет ничего плохо.

Так что нужно чётко понимать про диверсификацию образовательных траекторий наших детей. Гонка за тем, чтобы всем дать 100 баллов, просто нереалистична. Более того, есть категория академически неуспешных детей, их примерно 20% не только в России, но и во всём мире. Они ручками могут сделать такие штуки, какие ни один стобалльник не сделает, но назвать производную от сложной функции они не могут. Поэтому ориентация на 100 баллов в ЕГЭ — это ложный сигнал для нашей системы образования.
К сожалению, наши органы управления образования сравнивают школы по итогам ЕГЭ и олимпиадам, создавая пресловутые рейтинги в Москве, которые распространяются потом на всю Россию. Это всё чушь собачья. Если в школу отбирают детей со всего Питера или всей Москвы, там работают лучшие учителя, там семьи с высоким социально-экономическим статусом, есть куча дополнительного финансирования, она, конечно, занимает лидирующее место. А школа в том же спальном микрорайоне Москвы или Питера? Она с ней может конкурировать? Никогда. Для школы очень просто занять высокие места в рейтингах по ЕГЭ: выгнать всех троечников. Вот пусть они уходят куда-нибудь, а у меня останется элита.
Есть ощущение, что существует выстроенная система сдачи ЕГЭ, но нет системы подготовки к нему. Потому что пока этим занимается частный бизнес. Может быть, на уровне государства должна появиться единая система подготовки? И как она должна выглядеть, с вашей точки зрения?
Первое: в таких вопросах частный бизнес был, есть и будет. Всегда будут предложения, которые вызовут интерес у платёжеспособного населения. Вопрос, что делать с неплатёжеспособным населением? Мне нравится пример Татарстана, у которого есть две программы: «Поможем нашим детям преодолеть порог» (ориентированная на слабых учеников) и «Поможем нашим сильным детям набрать высокий балл». Две программы, которые включают в себя кучу сервисов для учителей и учеников. Если есть задача выпустить ученика «на троечку» — даётся один тип заданий, а для отличников — другой тип работ. Этот сервис работает бесплатно в масштабах республики. Мне кажется, это как раз тот ход, который решает проблему. По всей России можно делать то же самое, но мы же всё время занимаемся введением новых экзаменационных форм. А кому и зачем они нужны? Мы кучу ресурсов тратим на это вместо того, чтобы делать бесплатные программы для учителей, для школ, для населения. Вот это была бы хорошая акция на федеральном уровне, тем более прецеденты есть.
Насколько ЕГЭ повлиял на изменение школьной программы за эти годы?
По разным предметам по-разному. Если взять задания по ЕГЭ и задания, которые были раньше в учебниках, то ЕГЭ сильно повлиял на них. Если в старых учебниках до введения ЕГЭ было много заданий просто на память, то сейчас появились другие, требующие проверки определённых знаний и способностей.
В истории и обществоведении стали появляться вопросы на сравнение разных текстов, чего никогда не было. То есть, безусловно, экзамен влияет на школьные учебники, но тут есть и плюсы и минусы. В ФГОСе школьного образования, принятых федеральных стандартах, везде говорится о развитии у школьников метапредметных компетенций. Но ни в ЕГЭ, ни в школьных учебниках это не проверяется. А школа ориентируется на то, что в итоге проверяют. Существует явное отставание ЕГЭ от требований стандартов, что тормозит переделку школьных учебников в соответствии с требованиями ФГОСа.

У ЕГЭ — стобалльная система, у школы — по-прежнему пятибалльная. Вам не кажется, что это нужно поменять?
Конечно. Но это непросто. За что ставят пятёрку? За то, что человек следует образцу. Отступил от образца — четыре. Сильно отступил — тройка. Грубо говоря, пятёрка — это идеальное следование образцу. А в ЕГЭ — накопительная система: сделал задачку, вот тебе балл, ещё одну сделал — ещё один балл. То есть вычитательная пятибалльная система в школе и накопительная в ЕГЭ, конечно, противоречат друг другу. В этом плане умные учителя уже давно используют плюсы и минусы: тройка с плюсом или четвёрка с минусом — разные оценки.
Почему бы не ввести в школе стобалльную систему?
Не дай бог! Вы попробуйте объяснить ученику или родителю, чем 70 баллов отличается от 75 баллов. Это сложная психометрическая операция. А вот десятибалльная или двенадцатибалльная система вполне возможна. До 20 баллов реально что-то обсуждать. Не только накопительную систему вводить, но и систему критериального оценивания. Например, традиционная оценка за сочинение ¾ что означает? С грамотностью не очень хорошо и в пунктуации ошибок много. А четыре что означает? Ты плохо знаешь первоисточник, ты не смог выделить главные мысли в этом первоисточнике, ты не смог к ним обратиться, ты плохо излагаешь свои мысли. Что означает тройка или четвёрка за сочинение? А чёрт его знает, неизвестно!
Но сейчас почти в каждом субъекте Российской Федерации есть школы, где давно перешли на критериально-ориентированное оценивание. Когда человеку говорят, что с первоисточником всё хорошо, тут можно тебе пять поставить, или десять, или восемь, а с пониманием главных мыслей первоисточника — не очень хорошо, излагать свои мысли не умеешь, вот над этим иди работай. Тебе понятно, какой пробел тебе надо закрывать. В аттестат в таких школах всё равно выставляют тройки или четвёрки, но ученики в процессе гораздо лучше понимают, что означают их оценки. Умный учитель всегда ставит оценку и пишет к ней комментарий — это часть того самого критериально-ориентированного оценивания, которое надо легализовать повсеместно.
За эти десять лет, что существует ЕГЭ, мир сильно изменился. Развитие цифровых технологий, международные требования к образованию, перемены в запросе к школе в целом. Как приходилось под это перестраивать систему ЕГЭ?
Первое, что помогало ЕГЭ на протяжении всех лет — это развитие цифровых технологий. Как проводить единый экзамен на Крайнем Севере? Или в горах? Цифровые технологии сейчас позволяют это делать достаточно быстро и дёшево. Они, безусловно, ужесточают методы борьбы со списыванием. Но в остальном быстро меняющийся мир требует изменения самого содержания экзаменов. И вот тут, я ещё раз повторю, мы отстаём от общих трендов. Мы пока продолжаем тащить предметную парадигму.
Я, например, математик, но для меня хорошее академическое образование — это не про вычисления, не умение рассчитаться в магазине, а некоторое представление о математике как о языке, на котором разговаривает наука. Язык, без которого невозможно понять современные процессы в мире, в экономике, в бизнесе, в строительстве и так далее. Это академическое знание, а выучить сто теорем, но не уметь их использовать, на мой взгляд, к нему никакого отношения не имеет. А что говорит Министерство просвещения? «Мы должны определить, что каждый ребёнок по каждому предмету должен знать в конце каждого класса». Должен знать, а не уметь пользоваться.

И это полностью противоречит тому, о чем все говорят во всём мире.
Меня критиковали за фразу, что «тупая память» сегодня не нужна. Но на самом деле, ещё раз повторяю, акцент не на память, а на «тупую память»: я могу знать наизусть всё, но не умею этим пользоваться. При этом, если ученик имеет то самое академическое образование и понимает смысл задания, но не помнит формулу, он в интернете её в два счёта найдёт. Умение использовать знание или помнить факты, теоремы, произведения — два разных полюса. Не знаешь предмета? Никаких способностей быть не может. Без знаний делать нечего. Но если есть только знания, без умения их использовать — это тоже только половина дела.
Как вы оцениваете то, что сейчас происходит в плане изменений в ЕГЭ?
Общий тренд — то, что делают коллеги в Федеральном институте педизмерений — мне симпатичен. Для меня, повторюсь, спорен отказ от вопросов с выбранным ответом, потому что мы поставили слабых ребят в более сложную ситуацию и вынуждены понижать порог, чтобы выдавать аттестаты. Второе — надо продолжать работать над действующими стандартами школьного образования не по усилению чисто предметной парадигмы, а по переходу на операциональное описание компетентностей.
Если с первой ситуацией — это просто ошибка, то со второй не хватает времени и ресурсов. Это непростая работа и недешёвая, кстати, а нужно создать принципиально новое поколение учебной литературы и экзаменационных материалов.
Фото: hse.ru, РИА Новости (Павел Лисицын), mos.ru
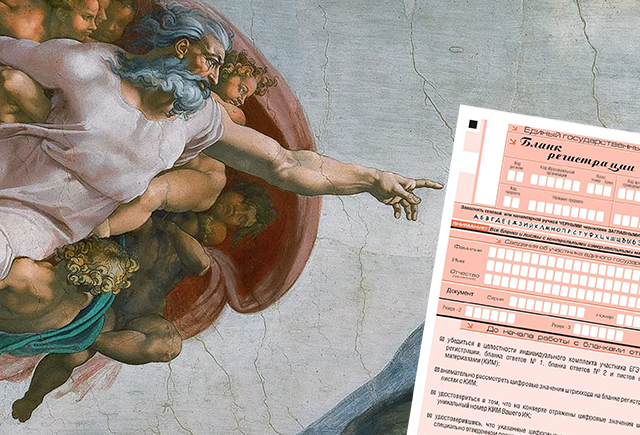











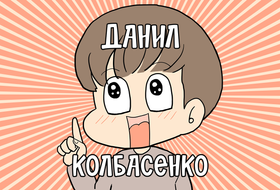







1. Вернуться к советской системе выпускных и вступительных экзаменов. Что получим? Взятки и там и тут как напрямую, так и завуалировано через репетиторство преподов из приемной комиссии, следовательно качество упадет еще ниже. Плюс абитуриенты смогут подавать документы только в один вуз — в 2 вуза параллельно сдавать экзамены не получиться.
2. Вместо ЕГЭ использовать блокчейн. Какой-то малограмотный депутат узрел модное слово и предложил сам не понимая чего.
3. Разрешить студентам подавть документы с ЕГЭ только в один вуз. Пожелалка ректоров переферийных задрищенских вузов — к ним никто не хочет поступать. Вот беда-то.
Итого имеем — некомпетентность, глупость, держимордость и коррупцию.
«ЕГЭ сознательно поддерживалось именно в годы массового распространения платного образования в вузах многочисленными заинтересованными лицами» — как раз наоборот, именно ВУЗы и разные членкоры завывали от потери здоровенного куска взяток на вступительных экзаменах и влияния вокруг них.
Минус второй: произошла радикальная подмена целей школы. Из важнейшего человекообразующего и народообразующего института она быстро превращается в институт натаскивания на ЕГЭ. С введением ГИА в 9-х классах та же судьба ждет основную школу.
Третий минус — деградация учеников и учителей. Это следствие резкого сокращения числа испытаний и их примитивизации. Следствие егэизации, отказа от устных экзаменов и диалогов таково: вырастает поколение малограмотных ленивых начетчиков с калейдоскопичным бессистемным мышлением. Вынужденное сосредоточение учителей на проблеме подготовки к ЕГЭ резко ограничил рост их профессионального мастерства.
Минус четвертый — заметное снижение уровня готовности к обучению в высшей школе. Причин этому много. Но вклад ЕГЭ велик.
Наконец, пятый минус: в ходе т. н. модернизации образования бездарно растрачены весьма немалые деньги (сколько?), а, главное, невозобновляемый ресурс — время.
Поставленные цели — введение единых для всех правил, искоренение коррупции, создание социальных лифтов — не достигнуты. „Хотели как лучше, а получилось много хуже, чем всегда“.» Абрамов А.
Без знания я бы даже машину не завёл.
Химия мне пригодилась один раз в жизни на третий год после окончания школы. Емли коротко, то благодаря знанию формул я получил весомую преференцию в работе.
Демобилизовался в начале 49-го. Восстановился в десятый класс и через два месяца сдал выпускные экзамены. В захолустном райцентре. И поступил в ленинградский политех на физ-мех. Секрет прост: он был из учительской семьи и умел учиться.
Мне, конечно, было проще. Но я через двадцать пять лет поступил тоже без всяких репетиторов. И мой сын учился на том же факультете и тоже никаких репетиторов мы емуне приглашали.
Ошибка выжившего — это ситуация, когда кто-то пытается принять решение на основе прошлых успехов, игнорируя неудачи или недоступные данные. Также можно сказать, что для подобной ошибки характерной чертой будет: «сосредотачиваться на опыте победителей, а не проигравших».
Рассказанные выше волшебные истории о поступлениях в топовые вузы из глубинки без репетитора — это частные случаи, коих и сейчас немало. Нередко слышу, как какая-нибудь девочка из малюсенького села, где чуть ли даже библиотеки нет, сдала ЕГЭ на 90-100 баллов, имея всего лишь доступ в интернет дома (без репетиторов). Истории громкие, но эо не отменяет того факта, что их единицы на миллион.
А для тех, кому все же нужна помощь в подготовке, помимо тонн бесплатных ресурсов существует множество очень дешевых массовых онлайн-курсов. Только вот беда, они рассчитаны на тех, кто будет добросовестно выполнять задания самостоятельно и в срок, получая только лишь самый необходимый фидбэк. Много ли детей сейчас на такое готовы? Да и когда ребенок спохватился в одиннадцатом классе, что хочет ЕГЭ по английскому сдавать, а сам ничего кроме London is the capital of Great Britain не знает, то тут еще неизвестно, кто дурак: создатели ЕГЭ или кто… А таких я тоже наблюдаю много, так как преподаю английский.
Эту фразу я читал десятки раз. Обычно без упоминания интервала сравнения. Но НИ РАЗУ мне не привели данные сколько москвичей училось в МГУ, МИФИ, 50 лет назад и сейчас.
Нигде в мире не принимают по результатам аналогов ЕГЭ «волнами».
2) «Цель единого экзамена (и это прописано во всех документах) — повысить доступность качественного высшего образования для детей из удалённых регионов, для детей из семей с низким социально-экономическим статусом, которые не могут тратить деньги на пробные поступления.»
1-я цитата Болотова из прошлогоднего журнала «Вопросы образования», 2-я из текста вверху. Как видим, цель изменилась. Почему? Во-первых ЕГЭ единый буквально только по русскому языку. Обязательный экзамен по математике не единый, — он разделен на профильный и базовый по выбору. Все остальные экзамены тоже по выбору. ЕГЭ (кроме русского языка) школьные экзамены не дублирует и не отменяет их. В проекте положения минпроса о школьной медали специально оговаривается, что для медали достаточно успешно сдать «базовую» математику.
Не все знают, что одновременно с «базовой» математикой в 2015-м заинтересованные лица пытались ввести и «базовый» русский. Тогда Ливанов выступил против, но предложение не забраковали, а «отложили». Не исключено, что и русский язык и планируемые иностранный с историейя тоже станут «базовыми». В этом случае Россия фактически полностью отменит обязательное среднее образование.
Экс-глава Рособнадзора Л. Глебова публично пообещала НИКОГДА не публиковать баллы ЕГЭ по регионам и ее преемники это обещание держат (даже по школам баллы ЕГЭ — «для служебного пользования»).
Для успешного прохождения итоговой аттестации необходимо набрать в сумме не менее 8 баллов, из них не менее 3 баллов в модуле «Алгебра», не менее 2 баллов в модуле «Геометрия» и не менее 2 баллов в модуле «Реальная математика». (Рекомендация ФИПИ)
Для примера возьмём реальные результаты одного из регионов за 2016 год:
Если применить норму не менее 8 баллов и исключить дополнительные условия по модулям, то в регионе не сдадут выпускной экзамен 2+7+12+13+18+17+148+180 — четыреста выпускников 9 класса. Это около 8%. Жутко много, конечно.
НО!!! Реально, с учётом модулей, их будет много-много больше. Дело в том, что геометрия в школах России практически не преподаётся. Это означает, что от 40% до 60% экзаменующихся, набравших общий балл 8; 9 или 10, не смогут сделать 2 задачи по геометрии. Много таких будет и среди решивших 11; 12 и т. д. задач. К четырём сотням добавятся ещё пять сотен, а 18% это уже катастрофа. В этом депрессивном регионе выход был найден простой: понизить порог до 6-ти задач и не учитывать модули.
Итак:
1. Есть норма 8 задач и разбивка (3+2+2) по модулям — это норматив ФИПИ.
2. Слышал про регионы где 8 задач и разбивка (3+1+2) (снижено требование по геометрии)
3. Есть регионы где 7 задач и разбивка (3+1+2) (снижено требование по геометрии)
4. Есть регионы где 8 задач и полное отсутствие учёта модулей.
5. Есть регионы где 6 задач и разбивка (2+1+2)
6. Есть регионы где 7 задач и полное отсутствие учёта модулей.
7. Есть регионы где 6 задач и полное отсутствие учёта модулей. Этот случай мы выше рассмотрели.
Каждая ступенька снижения норм приводит к существенному «уменьшению» (кавычки обязательны) количества двоечников. седьмая ступенька «уменьшает» их количество примерно на порядок.
А теперь внимание!
8. Есть Москва где порог снижается до 5 задач без учёта модулей, естественно.
1. Нет геометрического фактора.
2. Есть достаточное количество задач типа:
«Килограмм моркови стоит 40 рублей. Олег купил 2 килограмма моркови. Сколько рублей сдачи он должен получить со 100 рублей»
3. Тем не менее, есть подозрение, что сентябрьские пересдачи, каким образом — не знаю, подыгрывают двоечникам.
Цель ЕГЭ достигнуто — вырастили ограниченных незнающих непонимающих… которыми легко управлять.
Натаскивание это сговор нерадивого учителя с нерадивым учеником с целью имитировать знания с наименьшими усилиями. И ЕГЭ тут не при чем. При чем тут лень учителя и ученика.
Врет членкор. Как сивый мерин.
Где ЕГЭ и где черный рынок дипломов? Его что, не было до ЕГЭ?
Неправда.
Кто заставляет ВУЗы принимать учеников с низким баллом ЕГЭ? Выстави порог по 90 на каждый предмет и собери у себя элиту.
Или, как мне рассказывали про Украину (может, врали, не знаю): если не набрал 80 баллов по Национальному тестированию, в ВУЗ, даже платный, тебе поступать нельзя.
У нас так, конечно, не сделаешь — миллионы родителей, цель которых — выдрать/купить/любым способом получить деточке диплом просто затопчут правительство за такое решение. Посему дитя получает диплом психолога и идет заниматься ногтевым сервисом… А родители ежегодно платят ВУЗу за это на протяжении 5 лет. Все довольны — ВУЗ денежку гребет, мама счастлива, ногтевой сервис процветает. Только вот ЕГЭ в этой ситуации не виноват…
Я давно в школе работаю, помню, что было до ЕГЭ. Школа была социальным отстойником — все шли в 10 класс и сидели, поплевывая, потому как знали, что школьные экзамены им все равно зачтут. Я тогда всерьез собиралась работу менять…
ЕГЭ школу спас. Особенно когда его под камерами стали писать и наказывать за нарушения.
https://cont.ws/@mikluho/1229148
Это школа-то в СССР была безопасным местом? В первом классе помню было человек 40 — 3 ряда по 7 парт. В мое время школьники регулярно дрались в туалете или за школой. Буллинга было хоть залейся. Меня к счастью не травили, т. к. я умел постоять за себя (называли профессор кислых щей), но слабым доставалось конкретно. А так, вспоминая будни Мордора… Помню одноклассник в ТРЕТЬЕМ классе просто так поставил мне здоровый фонарь под глазом. Из-за него у меня на этот глаз развился астигматизм. Другие два упыря из класса (я был сильнее их поодиночке) сделали подвывих шеи — так и мучаюсь от шейной боли с тех пор. А сколько раз меня наказывали за дела других… В моем гегемонском дворе я дрался куда реже, чем в школе.
Вы очевидно тоже кое-что начали вспоминать из своей учебе в школе, только не хотите это признать. Это так называемое профессиональное когнитивное искажение.
А если у вас все было так плохо, ну что ж, сочувствую.
Переубеждать я вас не буду, но очень советую почитать что говорит ректор МГУ о выпускниках после ЕГЭ. Почитайте статьи Абрамова — тоже полезно. И я не говорю о том, что советская школа была идеальна — она была разной. Но так уж получилось, что из нее вырвали лучшее из того, что было и привнесли худшее, из вне. Ну а ЕГЭ нельзя рассматривать как единственный фактор — надо рассматривать систему в комплексе и тогда все станет понятно.
Про какую-то «двухнедельную отработку» — совершенно ничего не понимаю… Всем выпускникам выдавались аттестаты 25 июня (ни днем позже) и никаких отработок более не существовало.
Про отморозков согласен: для них форма экзамена не играет никакой роли.
Вы утверждаете фактически, что мы, учителя из той эпохи, хуже работаем, чем тогдашние учителя. Сравниваю себя: география — не хуже. Иностранный — лучше. Физкультура — пожалуй, похуже, очень уж учителя сильные были. ОБЖ — я знаю хуже, но преподаю в разы лучше.
Вёл секцию туризма в разы лучше, чем все мои любимые учителя вместе взятые.
Это я сделал школьное образование хуже? Или мои коллеги, такие же как мы? Рно не хуже. Оно другое!
И я не говорю, что мы работаем хуже. Хуже стала сама ситуация (условия, система оценки нашего труда, отсутствие базовых программ, идиотское подушевое финансирование — ставшее хроническим НЕДОфинансированием, чудовищное сокращение часов на предметы, развал воспитательной работы и пр., и пр… Ну а ЕГЭ — лишь одно из зол. Его основная беда не только в культе выбора «Из…» Беда в том, что мы позволили недорослю самому выбирать что сдавать (т.е. что учить), а в отсутствии базовых прграмм, оно стало единственным критерием успешности и теперь все легли под натаскивание на него, а не последовательное обучение.
Вот тут моя статья на эту тему: http://www.promved.ru/articles/article.phtml?id=3241&nomer=119
Кстати, копируют не только китайцы — весь мир сегодня, сборище жуликов, обеспечивающих постоянное обращение технологий. И по итогу, выигрывает не тот, кто создал, а тот, кто воспользовался с наилучшим результатом…
На счет «китайских» нобелевских лауреатов Made in USA: 12 «китайских» лауреатов Нобелевской премии https://www.south-insight.com/nobel?language=ru
Большая часть китайцев, получивших «Нобеля», либо отказались от гражданства Китая, либо явлются потомками китайских эмигрантов в США.
Лишь пять китайцев, бывших или настоящих граждан КНР, получили Нобелевскую премию. При этом только один из них — Мо Янь по-настоящему жил и работал в КНР. Это действительно печальный вывод, особенно на фоне многотысячелетней истории Китая, учитывая также то, что многие изобретения были сделаны именно в Китае, а по мнению ряда западных исследователей китайской науки, Китай в значительной степени превосходил Запад в Средние века. Тем не менее, если исключить из нынешних лауреатов литературу и политику, которые не являются наукой, то в списке остаются два физика, один из которых не проживает в Китае, при этом оба получили премию благодаря итальянцу в индусу в Университете Чикаго.
Воровать это не изобретать и открывать новое. Вот и от иероглифов им ума не хватает отказаться, хотя египтяне это сделали еще 2500 лет назад. Пока что Китай в фундаментальной науке это уровень статистического шума.
Кстати, то что вы путаетесь в понятиях: «метапредметность», «компетенция» и пр. — есть как раз тот самый результат пренебрежения языковыми составляющими. Да, и не расстраивайтесь — когда я попросил академиков РАО, дать определение «метапредметности» они (под хохот академиков РАН) тоже очень жалко выглядели, но что-либо сформулировать так и не смогли. Тоже самое было и с «компетенциями».
За сим прощаюсь — дела однако…
1. Метапредметность — чушь! У этого термина нет даже научного определения!!! Это — миф, пустышка!
2. «Компетенции» могут существовать ТОЛЬКО в среде трудовых отношений — это лишь совокупность трудовых прав и обязанностей. Другое дело: компетентность — совокупность знаний, умений и навыков.
«метапредметных компетенций»
Компетентность — наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в заданной предметной области.
Компетенция — круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлён.
Как видите, «межпредметность» и «заданной предметной области» между собой не согласуется по определению. Так что он правильно употребил данное сочетание.
Пожалуйста, оперируйте не своими выдуманными воззрениями и определениями, а исключительно академическими…
Приставка «МЕТА» означает — «над» (над предметом)… И исходя из этого, к этой абракадабре более всего относится метафизика…
И справочно сообщаю Вам, что образование, познание и изучение ВСЕГДА ПРЕДМЕТНО. Следующий уровень — межпредметное знание. Но никак не «над»…
Как говорил наш известный физик: Науки бывают естественные, неестественные и сверхъестественные (Ландау)
Неестественные — гуманитария (история, литература.)
«И уж если он просил своих учеников сделать обзор той или иной статьи, все они считали своим святым долгом выполнить подобную просьбу.
Сделать это было совсем не легко, потому что Ландау хотел знать все до конца. Бывали случаи, когда он находил, что статья недостаточно
обоснована. Тогда она объявлялась „патологией“ (так он это называл), т. е. чем-то ошибочным, или, что хуже, „филологией“, т. е. вовсе безосновательной болтовней.»
И зря вы так, я по образованию математик и отлично знаю что такое метауровень. Меж это про уровень хаоса грамматики русского языка — выше ему не подняться.
Метазнание — понятие инженерии знаний, в самом общем виде означает «любое знание о знании». Помимо инженерии знаний, используется в различных науках (когнитология, эпистемология, философия, психология), где, в зависимости от контекста, содержание понятия может варьироваться. Применительно к экспертным системам, по оценке Ж.-Л. Лорьера, метазнание «является фундаментальным понятием для систем, которые не только используют свою базу знаний такой, какая она есть, но и умеют на её основе делать выводы, структурировать её, абстрагировать, обобщать, а также решать, в каких случаях она может быть полезна».
Метатеория — теория, анализирующая методы и свойства другой теории, так называемой предметной или объектной теории. Термин «метатеория» имеет смысл и употребляется только применительно к данной, конкретной теории: логика — металогика; математики — метаматематика, теория математических доказательств; разделов физики; метахимия; метабиология и т. д.
Так что следующий уровень это всегда мета, а не меж. Меж это про меж ног.
На этом общение с вами закончено — более не интересно…
Известной группой влияния в 2001 году в экспериментальном режиме в ряде регионов России вводится ЕГЭ. К 2019 году он значительно эволюционировал в сторону прежних экзаменов (введение устной части, сочинение и др.). Васильева О.Ю. в интервью Российской газете отмечает: «В ЕГЭ — 2018 исключена „угадайка“». Проблемы, конечно, тоже остаются: уже много лет подряд родители жалуются, что после 9 класса ребенок перестает учиться и начинает готовиться к ЕГЭ. При этом огромные деньги тратятся на репетиторов. Обязательный ЕГЭ в России «отпраздновал» 10 лет https://rg.ru/2019/01/01/obiazatelnyj-ege-v-rossii-otprazdnoval-10-let.html
Если «преимущества» ЕГЭ (объективность, поступление на удалении от места проживания, формализация/автоматизация) и его «недостатки» (замена образования натаскиванием на задания/институализация репетиторства (параллельные платные образовательные учреждения)/финансовые затраты), то традиционные выпускные и вступительные экзамены, при их должном совершенствовании (позитивном развитии) могут быть более эффективны.
Основная проблема ЭГЭ в формализации и грядущей автоматизации экзамена. Оценить человека может только человек. Профессиональные психологи либо минимизируют применение тестов, либо не используют их вообще.
Идеологами ЕГЭ утверждается, что его главный плюс заключается в возможности выбрать «…вуз для продолжения образования вне зависимости от места проживания…». Данный вопрос может иметь следующее решение: в зависимости от учебных достижений в школе и доходов семьи государство кредитует проезд и расходы на проживание для сдачи вступительных экзаменов. В зависимости от качества сдачи вступительного экзамена, деньги полностью, частично или совсем не возвращаются. Хороший механизм для стимулирования обучения, культуры профессионального самоопределения, молодых людей ответственности перед семьёй и государством.
Что касается содержания то наиболее целесообразно иметь:
— образовательную программу для сдачи вступительных экзаменов, которая может быть в установленной мере шире и глубже чем ФГОС (см. «IX. Вступительные экзамены проводятся по программам, утвержденным Министерством высшего и среднего специального образования СССР, в соответствии с программами средней общеобразовательной школы.» Приказ Минвуза СССР от 04.04.1968 N 293 «Об утверждении Правил приема в высшие учебные заведения СССР на 1968 год»);
— справочники типа «Справочник для поступающих в ВУЗы 1976»;
— максимально полные сборники/банки/цифровые платформы открытых, структурированных по темам и уровням сложности, полноценных теоретических и практических заданий (По В. И. Загвязинскому задание это форма предъявления предметной задачи) в соответствии с вступительной программой, типа сборника задач по математики Кузнецова.