Не секрет, что отношения ребёнка с матерью накладывают серьезный отпечаток на его дальнейшую жизнь. В новом сборнике «О чём мы молчим с моей матерью», вышедшем в издательстве «МИФ», 16 героев рассказывают личные истории и пытаются уже во взрослом возрасте осмыслить свои детские воспоминания и понять, каким человеком была их мать и почему она вела себя именно так.
Мама всегда считала себя королевой, а мы все были ее верноподданными. Любое притязание на собственную индивидуальность рассматривалось как неподчинение власти, как знак того, что мы ее не любим. А когда мама считала, что мы ее не любим, то милостивая королева исчезала и вместо нее появлялась злая ведьма.
— Тучи сгущаются, — шепотом предупреждали мы друг друга, чувствуя, как настроение матери начинает смещаться в мрачную сторону.
Так коротко можно описать то, что не имело названия и зловеще подкрадывалось к нам исподтишка. Мама орала на нас, била посуду, пока в доме не оставалось ни одной целой тарелки, говорила нам ужасные вещи, которые все оседали у меня в мозгу, и потом требовались десятилетия, чтобы их забыть. Она столько раз разбивала парадные свадебные фото, что мы перестали ставить их в рамочку. Потом она запиралась в ванной и долго рыдала, не в силах остановиться.
Бывало, она на несколько дней погружалась в молчание. В одну минуту она могла переключиться от плача к безудержному смеху. Когда нас вовсю еще колбасило после устроенного ею урагана, она могла спросить вдруг: «Что случилось?» И если на наших лицах в ответ не отражалось ликования, то буря могла возобновиться. Так что мы мало-помалу научились игнорировать собственные чувства и эмоции, пока наконец не перестали их испытывать.
** *
Мне четырнадцать, и мать не один час бушевала, метая громы и молнии. Мы с отцом и сестрой устраиваемся смотреть телевизор: то ли «Остров Гиллигана», то ли «Шоу болванов» — наши любимые в ту пору телешоу и простейший для нас способ снять напряжение. Между тем в доме становится подозрительно тихо, и я иду проверить, что и как. Мама в ванной, с длинным глубоким порезом поперек запястья. На стене, на раковине кровь.
Мать глядит растерянно, что-то бессвязное бормочет. Я смываю кровь с ее рук и туго перевязываю рану бинтами, что хранятся у нас в шкафчике. Спрашиваю, зачем она это сделала, но она ничего не отвечает. Я укладываю ее в постель. О том, что случилось, не говорю ни отцу, ни сестре, которой всего восемь лет, а она в своей жизни уже видела много такого, чего ей видеть не следовало.
Где-то спустя год или чуть позже мать бушует в кухне. Она только что узнала, что отец снова тайком от нее отправил деньги своей сестре и матери на Шри-Ланку. Она кричит на него уже не один час, а мы с сестрой сидим у себя по комнатам, делая вид, будто ничего не происходит. Внезапно слышен ее резкий вскрик — мы прибегаем в кухню и видим там по всему полу алые потеки.
Оказывается, отец схватил ржавую жестяную банку с сахаром и что есть силы грянул мать по голове. Кожа рассечена, вовсю хлещет кровь. Вместе они отправляются в больницу, где будут объяснять, что она резко ударилась головой о шкафчик. Плачущую сестренку я отправляю обратно в комнату. Убираю с пола кровь, поблескивающие кристаллики сахара, алые комки, где они смешались вместе. Вспоминаю, что это кровь моей матери, и от этой мысли у меня начинает плыть перед глазами. Но все же к тому времени, как родители возвращаются домой, в кухне царит чистота и порядок.
Когда становилось особенно невмоготу, я брала сестру и мы куда-нибудь уходили из дома
Неважно, насколько поздним был час, — мы отправлялись с ней бродить по опустевшим пригородным улицам. Зачастую мы покидали дом так быстро, что оставались босиком, и бетон дороги холодил нам ступни. В парке мы качались на качелях, взмывая навстречу луне, упиваясь ощущением свободы от того, что могли гулять в то время, когда другие дети уже давно в постели.
Мы пробирались в чужие сады и надирали себе целые букеты роз, гортензий, лилий. Прогуляв так не один час, я прокрадывалась к нашей двери и прикладывала ухо. Если в доме еще слышались крики, мы с сестрой шли гулять дальше. Возвращались мы, только когда там все уже спали. Расставляли по вазам украденные цветы, и их аромат вскоре разливался по всему дому, проникая и в наши сны. Утром отец отчитывал нас за то, что мы умыкнули собственность других людей. Он так всегда беспокоился о других людях — как мы в их глазах выглядим и что у них отнимаем. И никогда его, похоже, не заботило то, что отнимается у нас, его детей.
Неудачный брак
На посторонний взгляд, у нас все было идеально. Дома мы бывали порой тихими и безмятежными, порой счастливыми и радостными. В другие времена, пожалуй не так часто, нами завладевал страх. Дело в том, что мы никогда не могли предугадать, какая мать нас ждет, какими у нас будут нынче родители: нормальные, предсказуемые, которые заставляют нас учиться и определенно нас любят, или те, что бешено изливают свою ярость друг на друга, затягивая в свой поток ненависти и нас.
Мы с сестрой сделались тонкими экспертами, улавливали малейшие перемены в их настроении и всегда были настороже, ожидая, когда в наш дом снова нагрянут мрак и ужас.
Я с самых ранних лет знала, что главная проблема крылась в неудачном браке. Мать не раз говорила мне, что ее выдали замуж слишком молодой за ужасного человека на десять лет ее старше. Она рассказывала, как скверно отец с ней обращался, что он не любил ее и что она глубоко его ненавидела. Меня порой очень смущали эти разговоры, поскольку я знала, что очень на него похожа, унаследовала многие его черты, и ко мне он был особенно добр и ласков. Мать его ненавидела, а я являлась его частью и потому, видимо, была в чем-то так же отвратительна и достойна ненависти. А еще я считала, что должна мирить родителей и по возможности беречь их друг от друга.
Ни о каком разводе не могло быть и речи. По общей негласной убежденности, для всех было бы лучше, если бы они вообще никогда не стали мужем и женой. Но раз уж они поженились и завели детей, ни для кого из нас уже не было никакого выхода.
Когда мы переехали в Америку, я узнала, что развод — нормальное явление. Мы лично знали выходцев из Шри-Ланки, которые здесь развелись и начали каждый свою новую жизнь. Конечно, это все равно считалось в каком-то смысле клеймом, но все же не было здесь так невозможно, как в Южной Азии и Африке.
В тринадцать лет я решительно заявила своим родителям, что им следует развестись. И в дальнейшем меня страшно удивляло, почему же они этого не делают
Прошел не один десяток лет, прежде чем я поняла, что версия неудачного брака была лишь прикрытием чего-то иного, что было куда труднее разглядеть.
Шрам
В течение нескольких лет — благодаря тому, что я всякий раз ее прошу, умоляю, грожусь разорвать с ней общение — моя мать периодически обращается за помощью к психологу. Но всякий раз где-то на четвертый месяц, когда начинается тяжелая работа по самоанализу, она бросает это дело.
Ее недоверие к лечению объясняется еще и особенностями национальной культуры. Традиционно в южноазиатских семьях психические недуги воспринимаются как нечто постыдное, едва ли не заразное. Когда мама была еще подростком, у самой красивой в ее поколении кузины вдруг начались, как это называется, психотические припадки. Родители возили ее лечиться за границу, но ничего не помогло, и в итоге ее привезли обратно на Шри-Ланку и заперли от всех в родительском доме.
Все знали, что она дома — порой с верхнего этажа даже доносились ее крики, — но никому не дозволялось с ней видеться. Это принудительное затворничество продолжалось три десятка лет.
В определенных южноазиатских кругах сумасшедшая на чердаке — вовсе не готическая страшилка, а совершенно реальная возможность существования для женщины, переживающей проблемы с психикой
Когда у матери затихали вспышки ярости, во время которых она отталкивала от себя любимых людей и уничтожала вещи, она обычно звонила мне и с плачем, снова и снова, повторяла: «Я не сумасшедшая! Не сумасшедшая». Что следовало понимать как «Прошу, не запирайте меня! Не выбрасывайте ключ!».
Вместо лечения моя мать доверяется священным ритуалам. Детьми нас не единожды водили в некий молельный дом, где индуистский священник подносил к нашим лбам один за другим сотню лаймов и разрезал их поперек. Предполагалось, что едкий сок брызнет в злые очи неведомых нам врагов, которые и вызывают все наши несчастья.
В нынешнюю пору мать то и дело пишет мне по электронной почте, спрашивая, можно ли она пошлет нам талисманы доброй удачи, благословленные святыми людьми. Говорит, что всегда читает наши гороскопы и что мне следует носить ярко-розовый, а сестре — золотой, дабы уберечь себя от чьих-то злых козней. И она искренне надеется, что если все мы будем хотя бы просто придерживаться этих переменчивых правил, то обязательно станем счастливой семьей.
Когда мне было семнадцать лет, родители возили меня в одну из сельских местностей Индии, в гигантских размеров ашрам своего гуру Саи Бабы — святого человека, у которого миллионы поклонников по всему миру. Мы там жили в семейном бараке — большом и многолюдном строении. Спали на циновках на полу, питались в огромной столовой. Вставали мы в 03:30 утра и вместе с матерью и сестрой сидели на земле, на женской стороне двора — с сотнями и тысячами других женщин, ожидавших в предрассветных сумерках, когда же появится гуру. Как только он выходил, женщины начинали песнопения. Один раз, когда он медленно проходил мимо нас, мама сунула ему в руки письмо, где описывались все ее беды. И с искренней набожностью рыдала, когда он принял ее послание.
Мне самой до лампочки был этот гуру. Мне жутко не нравилось и это место, и их правила, и их еда. Не нравилось разделение мужчин и женщин. В Америке у меня уже был бойфренд, но здесь, в нашем бараке, тоже жили симпатичные парнишки, в том числе и два брата из Южной Африки.
Как-то раз, когда мои родители прилегли днем «переспать жару», я отправилась в их угол, и мы, усевшись рядом на земле, стали разрезать манго. Когда один из парней шутя подбросил в воздух нож, я инстинктивно попыталась его поймать, и лезвие рассекло мне два пальца на правой руке чуть не до кости. Из раны тут же хлынула кровь.
Все, о чем могла тогда я думать, — это как разозлится на меня мать. Я стала умолять мальчишек и их родителей ничего ей не говорить. Я схватила порезанной ладонью рулон туалетной бумаги, потом еще один — но они стремительно пропитывались кровью. Мой желтый костюм шальвар-камиз тоже запачкался кровью.
Вокруг стали собираться люди, старухи перешептывались, что это мне наказание за то, что разговаривала с мальчиками
Кто-то все же донес моей матери о случившемся, и, когда она появилась, лицо ее было холодным и суровым. Она ничего мне не сказала, просто отвернулась и ушла. Кто-то перевязал мне руку, и отец отвел меня в больницу, где толпилась уйма народу. В дверях мы сообразили, что он не сможет войти вместе со мной, потому что здание тоже разделялось на мужскую и женскую половины. И потому мне пришлось в одиночку бродить по коридорам больницы, где я ни слова не понимала на местном языке.
Наконец удалось найти врача, чтобы зашить рану. Она оказалась хирургом, и потому у нее имелась лишь медицинская нить, которой зашивают внутренние органы, — толстенная и черная. Когда она наложила швы, два пораненных пальца выглядели так, будто мою кожу скрепляют сразу несколько огромных пауков.
Когда я вернулась из больницы, мать начала меня игнорировать. Я выказала неповиновение королеве, и теперь для нее попросту не существовала. Ее гневное молчание длилось несколько дней.
Сейчас, двадцать восемь лет спустя, у меня на руке по-прежнему виден шрам от того ужасного пореза. Он напоминает мне, каково это — нуждаться в сочувствии и утешении и вместо этого получить гнев и злобу. Он напоминает мне, что в моменты боли и страдания я никогда не обращусь к матери за утешением, потому что она — по сути, сама глубоко обиженный ребенок — никогда не сумеет мне его дать.
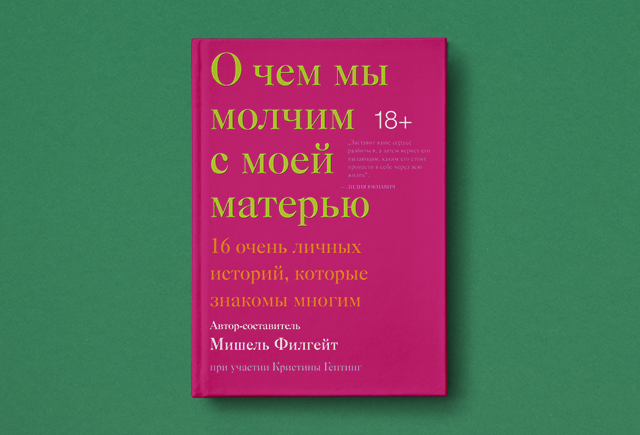












После таких откровений начинаешь задумываться о том, что родителтство должно быть дозволено только избранным, прошедшим тест на вменяемость.