«ПроПЕТЕРСОНенные насквозь»: как вся семья решала задачку за третий класс
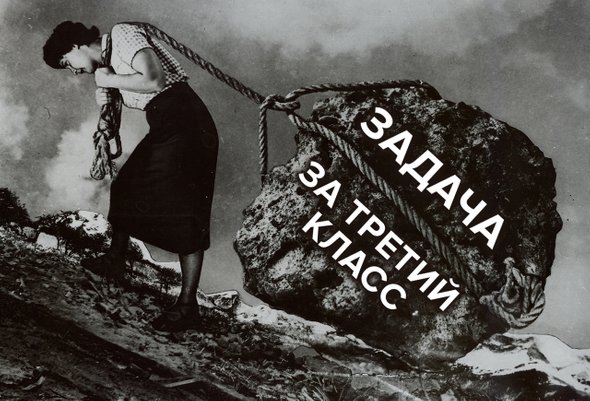
Об учебниках Людмилы Петерсон говорят и спорят больше тридцати лет: кто-то считает, что это до сих пор лучшие учебники по математике для началки, для других учёба по Петерсон хуже ночного кошмара. Наш блогер Екатерина Соколова рассказывает, как её папа — выпускник МФТИ — решал задачку из учебника математики за третий класс.
Сколько себя помню, учёба в нашей «замечательной» школе всегда была на каком-то надрыве. То есть не «учитель объяснил — ученик дома прочитал параграф и сделал домашнее задание», а вот именно сделал «творчески». Уже много позже подружка-психолог объяснит мне, что моё нежелание идти в творческую специальность было связано с тем, что со времён начальной школы слово «творчество» ассоциировалось у меня со словом «стресс».
Неважно, по какому предмету было задано задание: если при этом говорилось, что нужно подойти к домашнему заданию творчески, это автоматически означало, что вся семья будет как минимум сидеть до ночи. И если по ИЗО наша замечательная Юлия Викторовна всегда старалась быть лояльной и мягкой, задавая «соорудить» очередной шедевр абстракционизма (типа сделанной из старых газет головы, приклеенной к картонке), то вот творческие задания по математике — это всегда был стресс-марафон, победителями которого были просто выжившие.
В третьем классе пришла к нам тучная женщина с чёрными как смоль волосами и ярко-красной помадой по имени «Галина Паллна». Да не одна пришла — она привела с собой Петерсон (это учебник такой, кто не в курсе). Говорят, сейчас учебники Петерсон стали более «адекватными», но вот тогда, почти 30 лет назад, фамилия Петерсон рифмовалась в детской голове только с фразой «страшный сон».
Имея всю начальную школу твёрдую пятерку по математике, после прихода пары Галина Павловна — Петерсон математику я перестала понимать в принципе. Помню, как после школы мы судорожно перезванивались, сравнивая решения и ответы. Рисовали какие-то графики (это в 9 лет), писали бесконечные контрольные. Недовольны были все — и дети, и родители. Однажды произошёл один забавный случай.
Задачка была странная, как будто потерявшая по дороге некоторых участников событий. И вот я, девочка с богатым воображением, всё пыталась представить, кто, с какой скоростью и куда шёл, но никак не выходило. Звонки подружкам-отличницам результата тоже не дали — по ту сторону провода над задачкой бились уже целыми компаниями бабушек и дедушек. 9 лет — «солидный возраст», поэтому маму нужно привлекать только в случае крайней необходимости (другое дело, что эти случаи происходили довольно часто).
Мама, повертев задачу, нарисовав что-то на листке, тоже как-то быстро сдалась. Оставался последний и самый крайний вариант — звонить папе. Папа был выпускником МФТИ (что по меркам технарей сейчас в простонародье зовётся «уровень — Бог»), имел кандидатскую и работал в Институте космических исследований вместе с такими же гениями. Мы с мамой позвали к телефону папу, объяснили трагичность ситуации и сложность задачки и умолили нам помочь. Папа, конечно, недовольно фыркнул, но с видом знатока сказал, что решит и через пять минут перезвонит. Правда, добавил, что если всё детство решать за детей задачи, они ничему не научатся. Было, конечно, обидно, но у всего своя цена.
Прошёл час, но папа почему-то не звонил. «Наверное, заработался и забыл», — подумали мы с мамой и набрали номер института. Каково же было наше удивление, когда обнаружилось, что папа мало того, что задачу не решил, так ещё пригласил консилиум из отдела физики плазмы. Но что-то в этой задаче все равно «сбоило». ПроПЕТЕРСОНенные насквозь, содружество семей Института космических исследований легло спать после полуночи, по телефону обсуждая неразрешимую задачу.
На следующий день серые от бессонной ночи и пристыженные пришли мы, дети, в класс. Оказалось, что в учебнике была опечатка, о которой никто нас не предупредил.
Вы находитесь в разделе «Блоги». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Фото: Flickr (Beth Scupham)








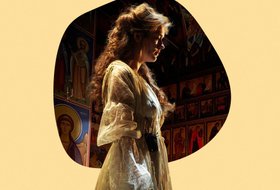







Учебник интересный, заставляет думать, не топчется подолгу на одном месте, как традиционный. Ну, может, последнее--отсутствие долгой отработки одного навыка--единственный его недостаток, из-за которого учебник может не подходить детям с интеллектом ниже среднего.
Но зато представитель 239 президентского физматлицея на мой вопрос, в какую школу отдавать ребёнка, чтобы в 5 класс поступить к ним, ответил:"Туда, где математику преподают по учебникам Петерсон.»
А самое главное, что вы проглядели в моём сообщении: представители одной из лучших матшкол России (погуглите 239 лицей) утверждают то же самое.
1) Два цветка в первой вазе, ни одного во второй.
2) Два цветка во второй вазе, ни одного в первой.
3) В каждой вазе по цветку.
2) Два цветка во второй вазе, ни одного в первой.
3) В первой вазе певрый цветок, во второй вазе второй цветок. 4) В первой вазе второй цветок, а во второй первый цветок. То есть математика (с учетом различных условий) знает 1, 2 и 4 варианта расстановки, но только не 3!!!
«Имея всю начальную школу твёрдую пятерку по математике».
Если учительница пришла в третий класс, а в первом классе, как известно, оценок не ставят, то «вся начальная школа» у авторши заключалась в единственном втором классе. Не густо, чтобы уверять о твёрдых знаниях.
Далее. Автор заявляет, что дело было «почти 30 лет назад». Но Л. Г. Петерсон разрабатывала учебники с 1991 по 1997 годы, после чего началось их внедрение. Так 23 года назад или почти 30? Это всё-таки разница.
Далее. «математику я перестала понимать в принципе». Задания в учебнике Петерсон просты до неприличия, моя 6-летняя внучка легко справляется с заданиями для 1-2 классов. Липовая, видать, была у авторши «твёрдая пятёрка» во 2 классе.
Пяти минут человеку с высшим образованием достаточно, чтобы сообразить, что в задаче не хватает данных, а если папа закончил МФТИ и не может несколько часов решить задачу для 3 класса, то он явно купил диплом.
В общем, авторша просто тупая, вот и взъелась на отличный учебник.
Автор выше в комментариях уже сказала, что «Мел» самовольно исправил название статьи. Да и подводку писал тоже «Мел».
И, поверьте, не все видят мир одинаково. Особенно относительно математики… Я была отличницей по математике (как раз 30 с лишним лет назад, в этом году 30, как закончила школу), учительница мне прочила карьеру учителя математики 🙈🤣 Но когда мы классе в 6-7 начали изучать синус, косинус и т. п., я никак не могла понять, что такое синус (для начала), для меня абсолютно пустым звуком были слова «синус — это отношение противолежащего катета к гипотенузе». Я не понимала, зачем учительница мне рисует кружок на оси координат, если мы об углах говорим))) То есть этим она меня только запутала донельзя! И только потом до меня дошло, что слово «отношение» обозначает «деление». И всё встало на свои места. И мне абсолютно не нужно было рисовать графики, параболы, гиперболы, мне достаточно было понять, что люди назвали словом «синус» то число, которое получается при делении длины противолежащего катета к гипотенузе в прямом треугольнике.
Так что, не все мыслят одинаково…
Учитель виноват даже не в том, что дал не глядя ученикам на дом задачу с опечаткой, а в том, что не готовил детей к жизни (которая чуть более чем полностью состоит из «нерешаемых» задач). И «академики» виноваты примерно в _этом_ же.
Я обязательно во втором классе даю детям время от времени задачи с неполными данными и задачи, которые нельзя решить «чисто арифметически», но которые мы каждый день как-то решаем на практике. Иногда да, родители подключаются и говорят мне: ну невозможно же решить! Но всё чаще дети начинают применять «грубую силу»: нельзя так решить, значит, разломаем пополам! Или принимают решение: не получилось; да и ф.г с ним! Может, там просто опечатка, а жизнь коротка — успеть поиграть в футбол важнее!
Вот это стремление занести в математику лишнюю жизненность забирает из науки присущую ей строгость и логику.
По логике обучения именно детей необходимо, на примере знакомства с логикой и лаконизмом математики необходимо показать детям логику и возможности её применения в жизни. Или невозможности.
Но математизировать всю жизнь логикой — неправильное решение. В жизни не всё математика, как правильно заметил один из комментаторов. Невозможно всё просчитать. Это покушение на интуицию и образность, художественность жизни. Оно и опасно шизоидностью
Ну, зато теперь у нас все будут сплошь патриоты, тупые правда, но это не важно (
Не буду оценивать заключение эксперта по патриотизму учебника. Это действительно некорректный вопрос эксперту.
Но с остальными возражениями эксперта можно согласиться. Действительно, чистой логики математики в учебнике мало. Но очень много житейской смекалки и литературы.
Обидно за математику. Автор учебника отнимает у прекрасной, лаконичной и строгой науки, её своеобразие. Вносит хаос в начинающиеся формироваться представления о логике. Жизнь во многом нелогична. Но математика должна оставаться строго логичной
И статья оказалась не о педагог, а о учебнике почему-то…
Не знаю каким был этот учебник 30 лет назад, но 15 лет назад, когда училась моя дочь, все было норм.
Моим детям повезло. Их учителя математики берут из всех программ лучшее. Поэтому задачи из уч. Петерсон всегда были дополнением к другим учебникам и задачам.
Много контрольных — тоже хорошо — (1) во время контрольной учитель не орет на весь класс, (2) на контрольной большой шанс получить 5 и (3) контрольные стимулируют, как спортивные тренировки; на уроках скучно, а тут можно решать задачи.
А что за задача? Самое-то интересное и не рассказали!
Нет, дело не в единицах измерений, это как раз таки у задачек Петерсон типичное. Для примера возьмем учебник Петерсон для 1 класса. https://s.11klasov.ru/1733-matematika-1-klass-uchebnik-chasti-1-3-peterson-lg.html. Смотрим страницу 16. Там тоже не указаны вопросы, как «в моём творчестве». И там тоже не указана размерность, как у меня.
2) Ваша ссылка не работает, выдает ошибку.
смотрела задачу с квадратами+треугольн.= треугольн.+квадрат.
Включите логику и вычислите цель и мотивы учителя
Задачку для третьего класса с опечаткой решает обычный восьмиклассник. Заодно и опечатку вычленяет.
Вы же подменяете логику математики логикой методики. Получается, что математики, получившие образование по разным методикам, перестанут понимать друг друга. Математике придёт конец? И в чём тогда логика сочинителей разных методик на одну науку?
Насчет перескочить на Петерсон после другого автора — не уверена что этот трюк реален. Сильно разные подходы.
Про отличницу. В те годы (о ужас!) в первом классе спокойно ставили отметки, (как и в моем детстве) а не устилали жизнь розами. И ничо — все выросли и довольно упитанны; -)
А если вы не смогли задачу решить, то это в первую характеристика ваших талантов, но никак не программы Петерсон
аналогичную историю. И везде фигурирует гениальный папа.
Я в этом рассказе увидела другую проблему — жёсткий авторитарный педагог и семейный невроз. Ну не получилась у ребенка задача — и что? Пришел в класс, спросил — МарьИванна, как решать? При чем тут родители и физическая лаборатория?
Сыну ещё почти 5 лет. Почти мучиться, к сожалению. Дурацкие предметы, 8 уроков ежедневно. Оформление важнее правильного решения (мат вертикаль)
С удивлением нашла многие «сложные» задачи из учебника Петерсон… в учебнике по арифметике 50-х годов. Всё новое во все времена — хорошо забытое старое)
Про учителей соглашусь. Не каждый может учить математике по этому учебнику. Не всем детям математика настолько интересна и нужна в таком объеме. Есть дети, которым она недоступна. Они могут быть хороши в другом. Мой одноклассник, для которого формулы сокращенного умножения были за гранью понимания, стал художником. И прекрасно живет без них))
А выбирать школу и программу в ней, пока их такое множество, в соответствии со способностями и интересами ребенка — задача родителей) и их абсолютная ответственность, в том числе вовремя уйти из неподошедшей школы