Вы наверняка слышали или читали, как о Марине Цветаевой говорят — «плохая и инфантильная мать». Она, мол, не спасла дочь Ирину от голодной смерти, из ее сестры Ариадны пыталась сделать свою копию, а сына Георгия, который еще учился в школе, оставила сиротой, решив свести счеты с жизнью. Но так ли все однозначно? Разбираемся, читая записки поэта, воспоминания ее детей и знакомых семьи.
«Расшибалась обо все углы»
Первая дочь Марины Цветаевой, Ариадна (дома ее звали просто Аля), родилась 5 сентября 1912 года, рано утром под звон колоколов. Поэтессе очень не хотелось называть дочь простым русским именем, как предлагал её муж Сергей Эфрон.
«Назвала ее Ариадной, вопреки Сереже, который любит русские имена, папе [Ивану Владимировичу Цветаеву], который любит имена простые („Ну, Катя, ну, Маша, — это я понимаю! А зачем Ариадна?“) друзьям, которые находят, что это „салонно“. Назвала от романтизма и высокомерия, которые руководят моей жизнью. Ариадна — ведь это ответственно!» — писала сама Цветаева в одной из своих записных книжек.
В первые годы жизни дочери Цветаева наблюдала за ней с любопытством и восторгом. Даже в своих записных книжках она выделила отдельную часть, посвященную старшей дочери, — «Аля».
Цветаева фиксировала изменения во внешности Ариадны, делилась словариком дочки, когда той был один год: например, «ко — кот (раньше ки); ми-и — милый; пА — упала; ухяо — ухо; бублю — люблю». Эта часть ее записей забавная, живая, любопытная. Цветаева наблюдает за детской нежностью и трепетностью, но описывает при этом только ее — о своих чувствах к Але она не пишет. Напротив, часто в дневниках Цветаевой встречаются записи о равнодушии и даже неприязни к тому, что принято считать типичным детским поведением. «Куда пропадает Алина прекрасная душа, когда она бегает по двору с палкой, крича: Ва-ва-ва-ва! Когда Аля с детьми, она глупа, бездарна, бездушна, и я страдаю, чувствую отвращение, чуждость, никак не могу любить».
Другие дети Цветаеву скорее раздражают — по ее мнению, они мешают Але и сбивают ее с пути
Марина Ивановна не особо принимала детские шалости и проделки, будто ревнуя Ариадну к беззаботности, возможно, потому, что её детство было иным, не таким светлым и радостным.
Мария Александровна, мать Марины и Анастасии Цветаевых, всегда была непреклонной и строгой. В эссе «Мать и музыка» сама Цветаева писала о ней так: «…вижу ее коротковолосую, чуть волнистую, никогда не склоненную, даже в письме и в игре отброшенную голову на высоком стержне шеи между двух таких же непреклонных свеч».
Отношения Марины с матерью были напряженными, иногда полными ревности к младшей сестре Асе, которую больше опекали из-за слабого здоровья. Мария Александровна была резка, требовательна, но и у нее случались волшебные моменты близости с дочками — девочкам нравилось, когда мама читала им вслух или рассказывала о своем детстве. Это были спокойные часы, когда Мария Александровна была «так же проста, как другие матери с другими девочками».

Мать Цветаевых умерла от туберкулеза, когда девочкам было тринадцать и одиннадцать лет, а отец Иван Владимирович часто уезжал и оставлял Марину с Асей на попечении экономок. Чувство внутреннего одиночества и сиротства у Цветаевой только росло, и в 1936 году в письме своей подруге Анне Тесковой она рассказывает о своей юности: «А главное — росла без матери, т. е. расшибалась обо все углы. (Угловатость (всех росших без матери) во мне осталась. Но — скорей внутренняя. — И сиротство.)».
Подростком Марина много размышляла о роли поэта и поэзии в целом, начала писать стихи. Ее словно не привлекал мир вне книг, вне историй о прошлом: в 16 лет она погрузилась в труды о Наполеоне и, когда отец уходил на работу, спускалась с чердака, где пряталась, в свою комнату и зачитывалась. Не самый привычный досуг для подростка, не самое обычное детство.
Рождение Али как будто помогло Цветаевой оттаять. В её глазах она была ребенком, который отличается от остальных детей. В её строках о первой дочери чувствуется тепло и любовь, о которой она нечасто говорила и писала: «Еще новость: стоит мне только сказать ей «нельзя» или просто повысить голос, как она сразу говорит: «ми» и гладит меня по голове. Это началось третьего дня и длится до сегодняшнего вечера. — Аля! Кто это сделал? Аля, так нельзя делать!
— Куку!
Я не сдаюсь.
— Ми! Ко!
я молчу.
Тогда она приближает лицо к моему и прижавшись лбом, медленно опускает голову, все шире и шире раскрывая глаза. Это невероятно-смешно».
«Моя мать совсем не похожа на мать»
Марина Цветаева сама учила Ариадну писать и читать, с шести лет девочка начала вести дневники — так учила мама: не механически переписывать слова из азбуки, а самой размышлять о том, что происходит вокруг, и наблюдать.

Фрагменты детских записей Ариадна опубликовала в своих воспоминаниях. О Цветаевой в 1918 году, в свои 6 лет, девочка пишет так: «Моя мать очень странная. Моя мать совсем не похожа на мать. Матери всегда любуются на своего ребенка и вообще на детей, а Марина маленьких детей не любит. […] Она грустна, быстра, любит Стихи и Музыку. Она пишет стихи. Она терпелива, терпит всегда до крайности. Она сердится и любит. Она всегда куда-то торопится. У нее большая душа. Нежный голос. Быстрая походка. У Марины руки все в кольцах. Марина по ночам читает. У нее глаза почти всегда насмешливые. Она не любит, чтобы к ней приставали с какими-нибудь глупыми вопросами, она тогда очень сердится».
Ариадна восхищалась матерью и её необычным характером, и это было взаимно. Она будто принимала правила игры Цветаевой, и, судя по записным книжкам поэта, глупых вопросов ей не задавала и обсуждала с ней устройство мира и жизни, творчество:
«Марина! Что такое — бездна?
— Без дна.
— Значит, небо — единственная бездна, потому что только оно и есть без дна».
Интересно, что Аля называет Цветаеву мамой довольно редко: все дело в том, что Марина сама не хотела, чтобы дети называли ее матерью, — к ней обращались либо просто на «вы», либо по имени.
С Ариадной Цветаева была близка, но не как мать, а скорее как подруга
«Жизнь души — Алиной и моей — вырастет из моих стихов — пьес — её тетрадок», — писала она. Аля читала и слушала стихотворения матери, любила их и понимала, а Цветаева была очарована детским мышлением Ариадны, её записными книжками и, воспитывая дочку, создавала одну на двоих творческую, чувственную, необыкновенную душу.
В воспитании Али Цветаева была похожа на свою мать: Мария Александровна хотела дать дочерям как можно больше духовного, приобщить их к миру искусства. Марина знакомила всех своих друзей с Алей, брала её на все вечера и культурные события, воспитывала в ней любовь к музыке и писательству и была в этом очень строга: «Марина не терпела ничего облегченного. Так, когда знакомые дарили мне альбомы для раскрашивания, она убирала их: «Сама рисуй, тогда и раскрашивай; кто разрисовывает, или срисовывает, или списывает — чужое, тот обирает самого себя и никогда ничему не научится!»

Сергей Эфрон, муж Марины, при этом не отказывался от участия в воспитании Али. Но в 1914-м началась Первая мировая, он отправился на войну медбратом, а в 1917-м уже сражался на фронте Гражданской войны за белогвардейцев.
«Когда вы выходите, я у вас этот хлеб — краду»
Ирина Эфрон, младшая дочь Цветаевой, родилась 13 апреля 1917 года. Марина о ней редко пишет в дневниках, часто сравнивает её с Алей и не понимает, как себя вести с ребенком: «В Алю я верила с первой минуты, даже до ее рождения, об Але я (по сумасбродному!) мечтала. Ирина — Zufallskind [„случайный ребенок“]. Я с ней не чувствую никакой связи. Прости меня, Господи! Как это будет дальше?»
Страна переживала не лучшие времена: Николай II отрекся от престола, Временное правительство пыталось установить власть, революция была уже близко. Первая мировая в разгаре, общество бурлит, быт не отпускает, Цветаевой даже не пишется — а это для поэта было знаком ужасной усталости и вымотанности.
Она хочет поехать в Крым, где познакомилась с Сергеем Эфроном, где жили их родные, где счастливо и беззаботно росла Аля, где было тепло и было море, где еще можно было найти хлеб не по карточкам (а сахар и керосин уже выдавали по талонам), но уехать ей долго не удается. Наконец в октябре 1917-го Цветаева начинает ездить из Москвы в Феодосию — ей хочется забрать из города Сережу и девочек и поселиться на юге, рядом с семьей, подальше от преследования большевиков. Но случилось так, что белогвардейца Эфрона из Москвы увезти удалось, а вот Цветаевой с детьми переехать — нет. Она оказалась в Москве с Ириной и Алей, отрезанная от мужа, от родных и друзей.
В Москве после Октябрьской революции был голод, население беднело, привычная жизнь разрушалась. Двадцатипятилетняя Марина с девочками поселилась в небольшой квартирке в Борисоглебском переулке — там не топили, дверь не запиралась, Цветаеву окружила нищета и разруха.
В книге «Быт и бытие Марины Цветаевой» Виктория Швейцер рассказывает, как однажды в эти трущобы (так Марина и Аля называли свою комнатку) забрался — точнее, вошел — вор. «Вошел — и ужаснулся перед бедностью», — а после беседы с Цветаевой даже предложил ей дать денег и хоть как-то помочь.
С Цветаевой иногда делились молоком и картошкой неравнодушные соседки, Марина в долгу не оставалась и тоже всегда была готова отдать последнее. В записных книжках 1919-го она отмечает: «Неприлично быть голодным, когда другой сыт. Корректность во мне сильнее голода, — даже голода детей».
Для выживания в голодной Москве Цветаева продавала мебель, ценные вещи, книги и свои рукописи
И воровала хлеб у знакомых: «Жестокосердые мои друзья! Если бы вы, вместо того, чтобы угощать меня за чайным столом печеньем, просто дали мне на завтра утром кусочек хлеба… Но я сама виновата, я слишком смеюсь с людьми. Кроме того, когда вы выходите, я у вас этот хлеб — краду», — ей было стыдно и невыносимо оказаться на месте просящего.
Шестилетняя Аля в это время ходила с матерью к перекупщикам, помогала по дому и старалась не показывать, насколько голодна, а вот двухлетней Ирине такое «чувство времени и беды» было еще незнакомо, она кричала и просила есть. Этот плач Цветаевой было слушать тяжело. Еще труднее было поделить еду на всех, матери часто приходилось выбирать, кому же достанется сегодня суп из столовой — «просто вода с несколькими кусочками картошки и несколькими пятнами неизвестно какого жира». Выбор хоть и делается, а результат был всегда один: кто-то из её детей непременно остается голодным, и еды может не быть еще несколько дней.
«Ну, Аля выздоровеет, займусь Ириной!» — А теперь поздно
Ира часто болела, росла слабой, плохо говорила — словариков, как с Алей, Цветаева больше не вела, но, может, это тоже особенность времени: нужно было думать о выживании, о приближающейся зиме 1919–1920 годов. С Ирой Марине было не так интересно, она не так её очаровала, как Ариадна, которая быстро полюбила стихи матери, начала рано говорить, читать и писать. В записных книжках Цветаевой нет отдельной главы об Ирине.
Цветаева признавалась, что, когда она уходила искать работу и брала с собой Алю, маленькую Иру они привязывали к креслу простынями, чтобы не упала, а потом, когда она подросла, привязывали уже к ножке кровати и оставляли одну в комнате, чтобы никуда не уползла и ничего не наелась; однажды Ира, оставшись одна, съела полкочана капусты и плохо себя чувствовала после этого «пира».
В конце 1919 года Марина отправила Алю и Иру в Кунцевский приют «Лиги спасения детей» в надежде, что их там хотя бы смогут кормить. Знакомый врач обещал питание от американского благотворительного фонда — рис с шоколадом! Это даже лучше картошки, которая бывала в Борисоглебском не каждый день.
Цветаева не могла часто навещать дочерей в приюте, поскольку добираться до него было довольно долго, но спустя месяц разлуки, после того как до нее донесли новости о том, что младшая её кричит от голода, а старшая тяжело болеет, она приехала и увидела, что никакого тепла, а уж тем более риса с шоколадом, в приюте нет и дети там умирают — им жилось хуже, чем в бедности с родителями.
«Постепенно понимаю ужас приюта: воды нет, дети — за неимением теплых вещей — не гуляют, ни врача, ни лекарств — безумная грязь — полы, как сажа — лютый холод (отопление испорчено). Хлеба нет. И всё. Дети, чтобы продлить удовольствие, едят чечевицу по зернышку. Холодея, понимаю: да ведь это же — голод! Вот так рис и шоколад, которыми меня соблазнил Павлушков! (Врач, устроивший детей в приют)».
Нужно было срочно спасать Алю. На то, чтобы вернуть Ирину, еще, казалось, было время, а старшая дочь могла без помощи врачей умереть, поэтому Цветаева забирает Ариадну и устраивает её в больницу. Друзья советовали как можно скорее забирать и Иру, а сестры Сергея Эфрона — Лиля и Вера — предлагали устроить младшую дочку к себе, но с условием, что это навсегда.
Цветаева терялась и не понимала, что делать дальше: в их квартире, в ужасном холоде, Ира вряд ли долго сможет прожить, а доверить опеку над дочкой сестрам мужа Марина не решалась: отношения между ними были напряженными.
Ирина осталась в Кунцевском приюте и умерла в начале февраля 1920 года «без болезни, от слабости»
Марина узнала о смерти дочери случайно — услышала это от кого-то в «Лиге спасения детей», она не пошла на похороны Ирины и в письме новым друзьям Вере Звягинцевой и Александру Ерофееву от 7 февраля 1920 объясняла: «…у Али в этот день было 40,7 — и — сказать правду?! — я просто не могла. — Ах, господа! — Тут многое можно было бы сказать. Скажу только, что это дурной сон, я все думаю, что проснусь. Временами я совсем забываю, радуюсь, что у Али меньше жар, или погоде — и вдруг Господи, Боже мой! — Я просто еще не верю! — Живу с сжатым горлом, на краю пропасти. Многое сейчас понимаю: во всем виноват мой авантюризм, легкое отношение к трудностям, наконец, — здоровье, чудовищная моя выносливость. Когда самому легко, не видишь, что другому трудно. И — наконец — я была так покинута! У всех есть кто-то: муж, отец, брат — у меня была только Аля, и Аля была больна, и я вся ушла в ее болезнь — и вот Бог наказал. […] Другие женщины забывают своих детей из-за балов — любви — нарядов — праздника жизни. Мой праздник жизни — стихи, но я не из-за стихов забыла Ирину — я 2 месяца ничего не писала! И — самый мой ужас! — что я ее не забыла, не забывала, все время терзалась… И все время собиралась за ней, и все думала: — „Ну, Аля выздоровеет, займусь Ириной!“ — А теперь поздно».
Цветаеву в смерти Ирины и жестоком к ней отношении винили друзья и родные, особенно Лиля и Вера Эфрон, которые хотели забрать к себе девочку, но в то время они жили не лучше и неизвестно, смог бы пережить уже ослабший ребенок такие тяжелые условия, голод и холод. Кажется, осознание смерти дочери пришло к Марине и ударило её позже, ведь Аля все еще болела, они были одни в Москве, нужно было выхаживать дочку, добиваться пропитания, протапливать небольшую комнатку хотя бы до плюс пяти — убиваться не было времени. Нужно было помнить о муже и постараться хоть что-то узнать о нем, но Марину терзали страхи: что, если Сергей еще жив? Как он отреагирует на смерть Ирины? Будет ли ее винить? «Самое страшное: мне начинает казаться, что Сереже я — без Ирины — вовсе не нужна, что лучше было бы, чтобы я умерла, — достойнее! Мне стыдно, что я жива. Как я ему скажу?»
Когда Аля выздоровела и мать откормила ее на паек, выписанный семье после смерти Иры, вихрь вины, стыда, страха и непонимания улегся, Цветаева начала винить сестер Эфрон: это они якобы дали Ирине умереть с голоду в приюте — из-за ненависти к ней. Цветаева представляла эту историю как «достоверность» во многих своих письмах, но февральские послания Звягинцевой и Ерофееву говорят о другом. Сложно разобраться в чувствах поэта: здесь и вина за выбор в пользу любимой дочери, за то, что не сделала всего, чтобы спасти младшую, злость на приют и врачей, здесь же — ужас из-за бессилия и, кажется, уже знакомое нам цветаевское «вопреки»: вопреки Лиле и Вере Эфрон особенно.
«Семейная сказка» и Мур «Цветаев»
Когда Марина узнала, что муж выжил и бежал из страны, она начала собираться в эмиграцию — больше не быть одной, увидеть наконец Сережу, спастись от революции. Они с Алей уехали 11 мая 1922 года, сначала в Берлин, а затем в Прагу, где у дочки началось настоящее детство, она почувствовала, что такое «семейная сказка».
В своих воспоминаниях Ариадна Эфрон рассказывает, как они с родителями устраивали вечера импровизаций, придумывали приключенческие истории, отмечали чешские праздники. Как пишет Виктория Швейцер, Аля теперь была просто дочерью, которая может пообщаться и повеселиться с родителями, а не подругой души Цветаевой.
В 11 лет Ариадна впервые пошла в школу, её отдали в русскую гимназию-интернат, где началась новая жизнь: без разговоров с друзьями Марины, без влияния матери и её попыток воспитать душу, которую Цветаева в Але очень любила. Но другие дети девочку не понимали и не принимали. Однажды в интернате Ариадну даже избили за её непохожесть и неумение общаться со сверстниками, но она старалась приспособиться, что для Цветаевой значило «стать обычной и посредственной».
Долгие школьные годы Алю не ждали: после возвращения из интерната у нее обнаружили затемнения в легких, Марина боялась за ее здоровье после зимы 1920-го, когда дочь чуть не погибла от болезни в приюте, и опасалась, что это может быть туберкулез, поэтому оставила Ариадну снова учиться дома и помогать с бытом.

В 1925 году в письмах Цветаевой наконец появилось слово «счастье» — 1 февраля у нее родился сын Георгий, о котором она так долго мечтала. Возможно, поэтому она отстранённо вела себя с Ириной, ведь ожидания оправданы не были, родилась снова девочка, похожая на Сережу… Но вот сын — похожий на нее, настоящий Цветаев.
Марина была им очарована, снова в её записных книжках появились наблюдения за новым человеком, его жестами, словами, поведением, его прелестью, с подачи Цветаевой в семье Георгия стали называть Муром. Он для поэта был таким же чудесным, как Аля, и после его рождения любимая дочка будто отошла на второй план — все было посвящено Муру, Цветаева сделала его центром своего мира и окружающим старалась показать, какое он «солнечное» создание.
Георгия она воспитывала так же, как и Алю: вселяла любовь к искусству, к любимой и далекой России. Он был хорошо образован, знал русский и французский, читал и писал на этих языках, но поведением своим — из-за того, что для матери он был центром мира и она ему поклонялась — Мур был труден, иногда невыносим, казался невоспитанным. Но Цветаева все списывала на необычный, поэтический характер сына и души в нем не чаяла.
«Нора — без окон и без стола»
В середине 1930-х в сообществе эмигрантов начали обсуждать возвращение на родину. Сергей и Ариадна Эфрон хотели приехать в СССР, оба вступили в Союз возвращения.
Марина не торопилась ехать в СССР, хотя родину очень любила и скучала по ней (все помнят «Тоску по родине…»?), но она боялась, что снова окажется одинокой, что Мура поглотит Москва и её отрежут от Сережи и Али. Она знала, что больше не сможет писать и ей не найдется места в советских литературных кружках. Все почти так и случилось.
Ариадна вернулась первой в 1937-м, она была счастлива, жила первое время у Лили Эфрон и сотрудничала с журналом Revue de Moscou, переводила статьи и рисовала иллюстрации. Чуть позже, осенью того же года, Сергея Эфрона ложно обвинили в убийстве советского разведчика, который отказался возвращаться в Союз, разгорелся скандал, после которого у семьи не оставалось никакого выхода, кроме возвращения в СССР в 1939 году.
Эфрон и Цветаева с Муром поселились на государственной даче под Москвой, Ариадна к ним иногда приезжала, так как сама она работала и жила в городе, но беззаботная жизнь в Союзе оборвалась слишком быстро.
27 августа 1939 года Алю обвинили в шпионаже и арестовали, а 10 октября забрали Сергея Эфрона
Ни дочери, ни мужа Цветаева после арестов так больше и не увидела. Алю приговорили к восьми годам лагерей, но в итоге она пробыла в ссылке 16 лет, Эфрона расстреляли в 1941-м по решению Военного трибунала.
Дачи возвращенцев опечатывали, Марина снова осталась одна с ребенком без работы и без денег. Их приютила в небольшой комнатке, которую Цветаева описывала как «нору — без окон и без стола», Лиля Эфрон.
Марина искала работу и в то же время ждала, когда же за ней тоже придут и арестуют — на этот случай у нее уже было решение: «повешусь». Но, пока никто не охотился за Цветаевой, она работала с переводами, старалась заработать на жизнь для Мура, для передачек Але и Сереже, а уже потом — для себя.
«Любила их до последней минуты»
Георгий Эфрон рос, переживал все страдания, переезды и нищету с матерью, но он не поддерживал Цветаеву в трудные времена, как это делала Аля, которая старалась не напоминать о голоде зимой 1919–1920 и пыталась помочь маме с хозяйством, хотя сама тогда была совсем ребенком. Мур был вспыльчив, отстаивал свою независимость: «Я считаю, что я буду вращаться только в такой среде, где я буду сам Георгий Сергеевич, а не „сын Марины Ивановны“. Иными словами, я хочу, чтобы люди со мной знакомились непосредственно, а не как с сыном Цветаевой».
Цветаева все это терпела и старалась принять — она знала, что сыну сложно приспособиться, что он так же отличается от толпы, как и она. Ей хотелось уберечь Георгия, а когда началась Великая Отечественная, Марина страшно нервничала и переживала, она чувствовала, что должна как можно быстрее добиться эвакуации и спасти от гибели хотя бы сына. Цветаева в истерике приходила на собрания в Дом писателей и никак не могла сосредоточиться на творчестве, потому что знала — сын в это время дежурит на крышах на случай воздушных тревог, чтобы сбрасывать с домов снаряды.
Цветаевой все-таки удалось получить разрешение на эвакуацию из Москвы в августе 1941-го, но Мур никуда не хотел уезжать: он только обосновался в новом городе, только нашел друзей, и вот снова — бегство. Даже помогать собирать вещи он отказывался: «Мать стращает меня укладкой, говорит, что она „запрещает мне“ брать два портфеля с моими дневниками и книгами, но мне наплевать, и я в последний момент все возьму, что хочу. Самое противное — укладка. Дело в том, что мать хочет заставить меня ей все время помогать. А я отнюдь этого не хочу, а хочу в Москве напоследок повеселиться как могу. Попробую мою обычную тактику: так плохо помогать, что она вынуждена будет сама отправить меня к черту».
По приезде в Елабугу он требовал, чтобы мать просила разрешения на прописку в Чистополе, чтобы вытаскивала их из «замызганного городишки». Протестовал и злился, грозил Цветаевой самоубийством, если она не попытается что-то поменять: «В конце концов мать поступила против меня, увезя меня из Москвы. Она трубит о своей любви ко мне, которая ее толкнула на это. Пусть докажет на деле, насколько она понимает, что мне больше всего нужно. Во всех романах и историях, во всех автобиографиях родители из кожи вон лезли, чтобы обеспечить образование своих отпрысков. Пусть мать и так делает».
В последние дни жизни Цветаевой стоял вопрос о прописке в Чистополе: тогда у Мура была бы возможность учиться и жить нормально, а у нее — работать судомойкой в Литфонде. Ей разрешили переехать, но радости или даже облегчения Цветаева, по воспоминаниям Лидии Чуковской, не испытывала — её жизнь была окончена, даже сын в ней больше не нуждался: «Со мною ему только хуже», — признавалась она приятельнице.
26 августа 1941-го Марина Ивановна отправила записку в Литфонд с просьбой устроить ее на работу судомойкой. А через пять дней повесилась в квартире в Елабуге. В предсмертной записке для Георгия она написала: «Мурлыга! Прости меня. Но дальше было бы хуже. Я тяжело-больна, это — уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але — если увидишь — что любила их до последней минуты и объясни, что попала в тупик».
В кармане фартука Цветаевой, в котором её и хоронили, гробовщик нашел блокнотик, где было написано одно слово. О нем никто не знал много лет, только перед своей смертью этот гробовщик, хранивший у себя записку и никому ее не показывавший, попросил семью передать блокнот родным Марины Цветаевой. Это слово — «Мордовия», там находился лагерь, куда определили Алю.
При написании текста использовались записные книжки 1913–1939 гг. Марины Цветаевой «Неизданное» в двух томах, воспоминания Ариадны Эфрон «О Марине Цветаевой», дневники Григория Эфрона и книга Швейцер В. А. «Быт и бытие Марины Цветаевой».

ИСТОРИИ
«Мама скрутила мне руки, а папа бил по лицу». Жизнь детей в секте Столбуна — псевдоврача из 1980-х

ИСТОРИИ
7 книг детских писателей об их собственном детстве. Летучие мыши Туве Янссон, стыд Корнея Чуковского и зоопарк Даррелла

КУЛЬТУРА
«Они боготворили своих отцов»: как жили самые привилегированные дети в СССР. Отрывок из книги «Дом правительства» Юрия Слёзкина







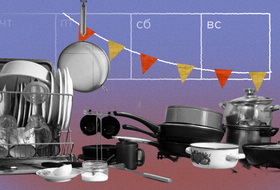


Пишу комментарий во многом для того, чтобы показать автору, что его труд оценен. Описываемая ситуация, очевидно, вызывает много противоречивых чувств, потому другие комментаторы решили воздержаться от высказываний.
И все же, времена были смутные и судить тяжело людей в таких жизненных ситуациях…
Много мнений, только помнить нужно впредь,
Что на всех свою рубашку не одеть…
Лишь Всевышний знает правильный ответ…
И от глаз его не скрыться, не уйти,
Вот поэтому живи и не суди…