С главным редактором «Нового литературного обозрения», меценатом, членом оргкомитета Общероссийского гражданского форума Ириной Прохоровой мы собирались побеседовать о том, как привить школьникам любовь к Толстому и Пушкину. Но по ходу разговора выяснили: равнодушие детей к классике — далеко не главная проблема современной школы.
Вы наверняка слышали, что в Госдуме предлагают исключить «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына из школьной программы…
«Архипелаг ГУЛАГ» — одно из величайших художественных произведений ХХ века, оно посвящено самому трагическому периоду в истории нашей страны. Попытки изъять его из школьной программы предпринимались уже не раз, причём под благовидными предлогами, например, нежеланием травмировать детей в нежном возрасте. Правда, в последнее время зазвучали другие мотивы: дескать, «Архипелаг ГУЛАГ» не объективно, односторонне отображает события нашего славного прошлого. На самом деле память о преступлениях советского периода сейчас опять становится крайне нежелательной, почти преступной. Вот интересно, чем хотят заменить это исторические знание…
Говорят про историю религий, например.
В самой этой дисциплине нет ничего плохого. Но мы должны учитывать контекст, в котором происходит внедрение подобного предмета в школу. Это попытка заполнить идеологическую лакуну, которая возникла в связи с падением советского режима. В мои школьные годы преподавалась история КПСС, в старших классах мы постоянно конспектировали Ленина. Сейчас Ленин с Марксом уже не у дел, а свято место пусто не бывает — и религия как составная часть консервативной государственной идеологии вполне сюда вписывается. Мы же понимаем, что на практике это будет не история различных религиозных учений, а закон божий. И вести эту дисциплину, наверняка, будут православные батюшки, что вообще-то противоречит светской школе. Библия, Коран, Тора, индуистская мифология — это великое культурное наследие человечества, которое, безусловно, необходимо изучать в школе. Но только при других обстоятельствах и при другой системе образования.
Что вы имеете в виду?
Понимаете, если мы с вами даже составим некую идеальную школьную программу, учитывающую потребности современного общества, тут же встанет вопрос — а кто будет всему этому учить? Нагрузка ляжет на основной преподавательский контингент — пожилых учительниц, которые работают за грошовые зарплаты, задавлены бюрократией и боятся транслировать точку зрения, не совпадающую с повесткой дня Первого канала. Они привыкли работать по спущенному сверху шаблону, они вряд ли смогут переучиться, и, главное, у них нет мотивации это делать. А молодежь категорически не идет преподавать из-за низкого статуса профессии. Если, скажем, вчерашний студент приходит учительствовать в сельскую школу, его стартовая зарплата колеблется в пределах шести тысяч рублей; то есть с позиции молодого поколения стать учителем означает расписаться в полном лузерстве. Говорить после этого о каких-то интеллектуальных высотах, творческом отношении к учебному процессу — просто неприлично.

Кстати, обратите внимание — все, что связано с человеком, его жизнью, достоинством, образованием у нас всегда плохо оплачивалось. Библиотекари, учителя, врачи, инженеры получали и получают несопоставимо меньше, чем обслуживающие интересы государства чиновники и силовики. Иными словами, неуважение к человеку в нашей стране определяет всю образовательную систему: от зарплаты учителям до контента учебных программ.
В чём главный минус этих программ?
Дело в том, что у нас не сформулирована государственная стратегия в отношении образования. Главный вопрос: для какой модели страны мы стремимся реформировать образовательную систему?
Если мы хотим быть впереди планеты всей, совершая технологические прорывы, о которых так много говорится, мы должны допустить «вольнодумство» как базовый образовательный принцип. Под вольнодумством я понимаю не только свободный доступ к большому объему информации, но в первую очередь развитие критического мышления. Тогда на выходе мы получим поколение мыслящих и активных граждан, способных создавать нечто новое во всех областях общественной жизни.
Отрезая детей от глубокого и серьезного знания, не развивая в них воображения и рефлексии, мы рискуем получить агрессивных и невежественных людей, не способных принимать самостоятельные решения. Конечно, мы вполне можем быть консервативной, провинциальной страной и существовать в подобном состоянии довольно долго. Но при такой модели государственного устройства нужно забыть об великодержавных амбициях.
Попытка усидеть на двух стульях в итоге приводит к результату, который блестяще сформулировал незабвенный Виктор Степанович Черномырдин: «Хотели, как лучше, а получилось, как всегда».
Критики сейчас парируют: в советских школах вольнодумства тоже не было, а Гагарина в космос запустили.
Насчет Гагарина верно, но, например, на некоторых заводах до конца советской власти рабочие пользовались станками чуть ли не 1905 года выпуска. Говорю это не понаслышке, я видела этот великий технический прогресс своими глазами. В конце 1960-х вдруг обнаружилась явная нехватка рабочих кадров, и старшеклассников стали водить на заводы на ознакомительные экскурсии, а иногда даже на практику в надежде, что там им понравится и после окончания школы многие захотят пойти туда работать. Я побывала на парочке заводов, может быть, мне не повезло, но допотопность оборудования и качество выпускаемой продукции повергло меня в шок.
Мерить качество образования исключительно Гагариным не совсем верно, вот ведь и Северная Корея осваивает космос и «мирный атом». Вечное оправдание всего советского — «при Сталине были такие замечательные ученые, изобретшие атомную бомбу». Вот только это было поколение, сформировавшееся до революции или в 20-е годы, когда ещё оставались коридоры творческой свободы, когда сохранялись международные контакты. Потом этих замечательных ученых либо уничтожили, либо засадили в шарашки. Да, они подарили стране и миру ряд выдающихся изобретений, но не получили возможности оставить после себя школу, учеников, полноценное научное наследие. Это неизбежно привело к стагнации научной и общественной жизни.

Если советская образовательная система была столь совершенной, откуда тогда вылезла вся эта чудовищная дремучесть, которую наши депутаты транслируют на всю страну по телевизору, а простые смертные в интернете? Значит, не так все было хорошо в традиционном советском образовании?
Многие хвалят его за то, что детям прививался патриотизм, идеалы, которых якобы не хватает современной молодежи…
С чего эти ура-патриоты взяли, что у молодежи нет идеалов? По моим наблюдениям, у молодого поколения намного сильнее развиты этические и гражданственные чувства, нежели у пришедших к власти позднесоветских циников, которые на старости лет принялись читать морали. Сразу вспоминается известная острота Оскара Уайльда: «Старики любят давать нам хорошие советы, потому что уже не могут подавать дурные примеры». И каковы те высокие идеалы, которые хотят навязать молодым людям эти новоявленные моралисты?
Детям со школьной скамьи внушают отнюдь не идеи добра и милосердия, уважения и сострадания к людям
Напротив, им преподносят апологию насилия, милитаризацию жизненного уклада в качестве основной гражданской добродетели. Не ровен час, в классах опять повесят доски с пионерами-героями для почитания и подражания. Мало кто сейчас задумывается о том, какой идеал детства выступал из этих леденящих душу повествований о юных мучениках за идею, которых пытали, истязали, убивали. Государство, вместо того чтобы защищать молодых людей от насилия и жестокости мира, обеспечивать им счастливое детство и будущее, благословляло бедняг на страдания и безропотную жертвенность, устраняясь от всякой ответственности за их судьбу. На мой взгляд, это была чудовищная, бесчеловечная и аморальная идеология, и с такими идеалами нам явно не пути.
Другая крайность — попытки защитить детей от определённой информации, оградить их присутствие в интернете.
Я, как человек выросший с транспортиром и счетами, вообще не вижу никакой особой угрозы в новых гаджетах и интернете. Интернет по сути ничем не отличается от традиционного способа производства информации, потому что в мире всегда было много чепухи, глупости и невежества, и очень много вредных книг в том числе. Задача образования и воспитания во все времена — научить навигации: как ориентироваться в океане информации, чтобы выбрать достоверное знание.

5 мифов о советской школе
Какие книги лично вы посоветовали бы читать современным подросткам?
На самом деле, было бы интересно спросить самих школьников: какие книги они читали с удовольствием и про что хотели бы прочесть еще. У нас же не принято спрашивать детей, они же у нас «ничего не понимают», мы должны все за них решать. Но действительно с охотой дети будут читать лишь те произведения, которые созвучны их возрасту, их интересам и проблемам.

Если мы хотим реально увлечь детей чтением, нужно создавать гибкие программы, не зацикливаться только лишь на классиках, сочетать иностранные книги и отечественные, объединять книги по тематическому принципу. Например, сделать подборку по фэнтези. Пусть читают, обсуждают…
Сейчас уже не актуальны литературные каноны, списки обязательных книг, служивших критерием образованности
Это раньше в приличном обществе стыдно было признаться, что ты не читал какого-то культового писателя. Сейчас, во-первых, меньше лицемерия в этом плане, люди перестали изображать всезнаек. Во-вторых, чтение стало более индивидуализированным, разнообразным; книги перестали быть стержнем поколенческой идентичности, но не утратили своей значимости. Просто чтение из доминирующего интеллектуального занятия в нынешнюю эпоху стало частью общего культурного досуга. И ругать новое поколение за то, что оно якобы чрезмерно увлекается визуальностью в ущерб книгам, не просто бессмысленно, но и вредно.
В современном мире мы многому можем научиться у детей, можем вместе с ними расти и развиваться. Я как раз с большим оптимизмом и симпатией смотрю на сегодняшнюю молодежь и уж точно не поддерживаю брюзжание из серии «мы были духовнее». Просто потому, что это как минимум непродуктивно.
Иллюстрации: Shutterstock (SoulGIE)
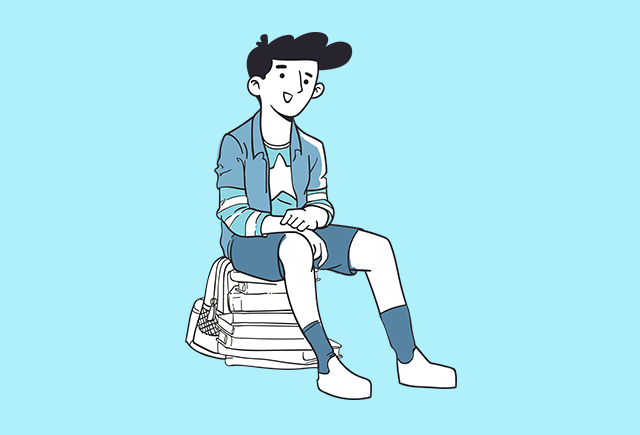










И цивилизацию, если вы так плохо помните истории я напомню, создали не эти жулики. Ее создали и древние египтяне, шумеры, китайцы, греки и римляне. А компьютер создал Конрад Цузе в гитлеровской Германии.
Суворов освобождал в коалиции с Австрией Швецарию от французских оккупантов. А вы что подумали? Мне даже интересно стало?
На счет Польши. Это разве не Польша в оттяпала в 1919 году часть Чехословакии, а затем в 1938 году сговоре
с Германией и под нажимом Франции и мелкобритании еще часть? Для чего не пропустила силы СССР для защиты Чехословакии. Так чего ей жаловаться на то, что случилось после этого — о договора Гитлера и Сталина уже о разделе Польши? С волками жить — по волчьи выть. Они сами породили эту проблему вместе со своими союзниками. Что касается Финляндии, то ошибку и слабость Временного правительства России и Ленина надо же было когда-то хоть частично исправить. Я понимаю, что некоторым нравятся власть импотентов, но ведь не всем.
взрослый человек даже с куриными мозгами так рассуждать. Скорее всего кто-то откровенно придуривается.
Школа была нацелена на передачу знаний, а не на выявление и развитие способностей. В школе было просто скучно: зубрёжка и натаскивание на решение определённых задач.
Государственная школа не занимается выявлением способностей у детей, поэтому мы перевели дочерей в вальдорфскую — небо и земля.
Стабильность — это не всегда хорошо. Особенно когда стабильность=застой. Уверенность в будущем — это демотивирующий фактор, ведущий к атрофии механизма оптимальной коллективной бдительности живых существ, минимизирующего потери при нападении хищников.
Пожалуй, я уже дозрела поработать над созданием антирекламы этому сайтику. Роспотребнадзор должен знать с чего начинать.
Умный враг, разрушающий страну, внушая, поравалить, всё, что вы ценили фейк и миф, ищущий в мерзости элементы красивого… Ну-ну, посмотрим.
а к чему это всё я? к тому, что статья — бред, а сам мел практически всегда только о плохом. чтобы ни было в нашем образовании — это всё плохо, ужасно, всё не так и так далее. лишь бы поныть да рассказать в красках о печальной России. особенно посмеялся над «самым мрачным периодом истории России». я как историк точно могу сказать, что если СССР называть мрачным периодом, то с таким же успехом можно назвать всю историю России точно так же, ибо и там можно всё то же самое найти. если любить историю — то всю и целиком.
А теперь и учебники, разбирая тексты, учишь видеть не однозначность или просто вредоносность контента, и про свою страну на английском требую больше говорить: пусть хоть на моем предмете монолог осмысленный о нас строят, даже с ошибками.
Надоело это обхаивание и сплошной негатив отовсюду! Это дети, им нужен позитив, они должны любить свой дом и родину. И критика должна быть конструктивной, а не поравалитиков взращивать.