Этой осенью Линор Горалик выпустила новую книгу о девочке Агате — «Холодная вода Венисаны», которую сама называет очень страшной сказкой. Юлия Варшавская поговорила с писательницей о том, почему сказочным персонажам не нужна психотерапия, как освободиться от семейного рабства и написать детскую книгу о сегодняшней России.
Зачем нам нужны сказки?
Я могу отвечать только за себя и сказать, зачем они нужны лично мне: у меня всегда было ощущение, что сказка — это пространство, в котором эмоциональное состояние героя полностью аутентично и достоверно (собственно, так же устроен миф). Иными словами, проживание той или иной эмоции для героя сказки — такая же неотменимая обязанность, как и совершение того или иного поступка. Без этого судьба его — то, что ему предназначено, — не состоится.
Мне кажется, ровно за эти вещи я люблю и подростковое кино. Проживание эмоций — это, в некотором смысле, невыносимая, но словно бы и неотменимая часть жизни. Не менее, чем «практические», бытийные вехи. У меня есть любимый пример: фильм Dangerous Intentions. Такие «Опасные связи», перемещённые в современное «подростковое» пространство.
Это оказывается гениальным ходом, потому что накал эмоций, накал поступков немедленно становится в высшей степени достоверным. Там, где ты ждал бы от взрослого героя «зрелых реакций» (а то и думал бы: «Не надо ли тебе к терапевту, если не к психиатру, дорогой дружок»?), подросток делает то единственное, что может делать — будь то дуэль или настоятельные размышления о «Роскомнадзор».
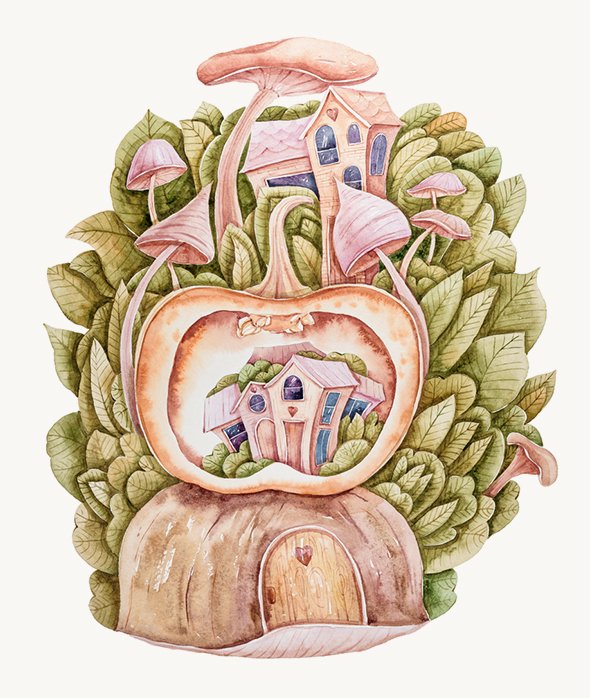
Есть две важные оговорки: одна — конечно, все мы хотели бы, чтобы жизнь подростков была полегче, и родители заботятся о том, чтобы дать им способы справляться с эмоциями настолько, насколько только можно. Вторая — нет, жизнь взрослого ничуть не проще. Но вот в чём фокус: как герой сказки намертво заперт в своих обстоятельствах, так и подросток в 90% случаев не имеет подлинного контроля над своей жизнью. Он не может сбежать, не может сменить город и среду, не может купить себе билет в один конец, не может ничего. Он может только проживать ситуацию насквозь, а ты можешь на это смотреть. И смотришь с открытым ртом — будь то сказка или подростковое кино.
Но сейчас в западном мире царит культ «здоровых отношений», из которых просто вымарали любовь, страсть, эмоции. В любой момент, когда ты ощущаешь болезненные эмоции, тебе говорят, что надо срочно идти к психологу.
Я знаю, что один из обывательских стереотипов образов терапии именно таков: «Она делает из человека бездушного робота». Это, конечно, не так (я в терапии очень много лет и благодарна моим терапевтам сильнее, чем могу выразить). Хорошая терапия делает едва ли не обратное: она приводит человека в контакт с его эмоциями и даёт ему инструментарий для того, чтобы они его не разрушали. Дальше он может сам решать, как с ними взаимодействовать.
В сказке же у героев нет такой роскоши. Когда Заяц садится перед Колобком и говорит, что его съест, несмотря на то, что Колобок от бабушки ушёл и от дедушки ушёл, никто не считает, что Заяц просто боится своих эмоций и прибегает к агрессии там, где мог бы вступить с Колобком в полноценную эмоциональную связь.
То есть детям так нужны сказки, потому что они не могут существовать в мире взрослых — «здоровых» — эмоций?
Я не чувствую себя вправе говорить о других. Я могу сказать, зачем сказки в детстве нужны были мне. Например, в 10-11 лет мой реальный мир был очень страшным, по ряду причин. Мысли о том, как устроены жизнь, а особенно о том, как устроена смерть, съедали меня. Главным открытием для меня — и моими спутниками — стали рассказы Эдгара По и неадаптированные сказки братьев Гримм, тоже очень страшные, как мы знаем.
Мне вообще кажется неправильным говорить обобщённое «дети», когда речь идёт о литературе. Нам же никогда не придёт в голову говорить «люди», верно?
Мы помним, что все люди разные, но стоит речи зайти о детях, как у нас почему-то создаётся такое впечатление, что дети — это некая однородная каша, и для них создаётся «детская литература».
Мне же представляется, что очень многим детям сказка нужна для того (как известно), чтобы проживать эмоции в безопасном пространстве — но некоторым детям это ещё нужнее. Книги для них могут быть и страшными, и сложными. Мне кажется, что когда я пытаюсь писать некоторые свои детские книжки, я представляю себе именно таких детей.
Есть устойчивое представление о сказке как об источнике морали. Как вы к этому относитесь?
Мы все понимаем, откуда это пришло, но лично мне кажется, что по-настоящему хорошая литература несёт человеку любого возраста две вещи: переживание чтения как события и утешение. Утешение — это не обязательно «сахарный сироп на сердце», иногда это понимание того, что твои, например, страхи разделяет кто-то ещё и о них можно поговорить.

Ребёнку она помогает пережить то, что он сам чувствует?
Не могу говорить за каждого ребёнка, но мне книги помогали (а были те, которые, наоборот, усугубляли моё состояние, это отдельный непростой разговор). Вот пример: есть дети, которые остро чувствуют, что мир — это хаос, но в этом хаосе надо как-то жить. Мне кажется, что все мои детские книжки про это. Про то, что мир — хаос, но в нём выжить всё равно можно.
А ваша новая книжка «Холодная вода Венисаны» — она про какую эмоцию?
Наверно про то, что чутьё не так уж редко нас обманывает. Когда ты ребёнок, взрослые в большой мере тебя приучают не полагаться на свою интуицию. Хотя бы потому, что это мешает им тобой управлять (управлять не в плохом смысле — ребёнком ведь реально нужно как-то управлять, направлять его, иначе он не выживет).
Зачастую из-за этого ребёнок оказывается в раздвоенном, шизофреническом мире: он чувствует одно, а ему говорят другое. Он чувствует, что в семье что-то не так, а ему говорят: «Всё в порядке». Он живёт в неразрешимой, невыносимой фрустрации, проходит месяц, его сажают на диванчик и сообщают, что мама с папой разводятся.
Он чувствует, что близкий человек тяжело болен, но ему ничего не говорят «для его же блага», и пока взрослые получают поддержку и открыто обсуждают проблемы, он мучается страхами и предчувствиями.

Мне же хотелось показать мир, где предчувствия ребёнка имеют значение: предчувствие зыбкости мира, а на деле предчувствие войны, которое постепенно формируется у Агаты, оказывается правдой, Агата не сошла с ума.
Другая часть этой истории для меня — про то, что если ты научишь себя сближаться с людьми, это окупится сторицей. А третья — что можно выжить в самых неожиданных ситуациях. Даже если тебе объясняли, что в этих ситуациях человек почти покойник, всё равно можно выжить. Это сказка про девочку, которая сумела выжила в экстремальных для себя условиях.
Там есть очень мощный образ учеников, которых воспитатели связали друг с другом верёвками и водят строем. Вас волнует тема порабощения детей взрослыми?
В книге детей водят так, потому что за них боятся: это не про контроль, а про безопасность, взрослые в Венисане очень хорошо к относятся к детям и очень их любят. Может, их даже слишком опекают, охраняют и любят. Это именно то, о чём я говорю выше.
Но ведь и в реальном мире ребёнок — немножко раб. Человек, даже очень счастливый человек, несвободен от рождения до смерти: например, он раб своей семьи, даже когда никого из её членов уже нет в живых, и уж безусловно он в большой мере раб своего тела. Но у взрослого человека есть шанс приобрести механизмы, которые позволят как-то справляться с жизнью. Когда же ты маленький, у тебя все те же проблемы, тот же эмоциональный мир, те же желания и стремления, но при этом нулевой инструментарий для того, чтобы справиться с этим.
У тебя нет жизненного опыта, который тебе подскажет, что всё в конце концов пройдёт. У тебя нет возможности изменить свою жизненную обстановку. У тебя ноль шансов сменить людей, с которыми ты имеешь дело. И как бы тебя ни любили, ты остаёшься рабом этой ситуации на много лет вперёд. С этой точки зрения меня всегда интересует тема несвободы у детей, конечно.
Вам не кажется, что несвободы становится слишком много? С одной стороны, дети теперь свободнее благодаря интернету, с другой — общество становится всё более небезопасным. Условно, никто больше не отпускает детей гулять во двор.
Я не знаю, как обо всём этом думать; у меня нет инструментария для того, чтобы хотя бы начать понимать, что значат для личной свободы и личной несвободы человека те социальные и технологические изменения, с которыми мы имеем дело, — а ведь процесс этих изменений ещё далеко не завершён, мы находимся как бы в середине революции, если не в её начале.
Думаю, пока это поколение, а потом ещё одно поколение не вырастет, мы так и не узнаем, что всё это значит. Легко сказать, что, с одной стороны, дети получают совершенно другой уровень свободы благодаря новым коммуникациям. По крайней мере, в виртуальном пространстве ты гораздо чаще можешь быть тем, кто хочешь, и выбирать тех, с кем желаешь иметь дело. Но раздвоение провоцирует неврозы, и тот факт, что у человека есть свобода в одном пространстве, а нет свободы в другом, сам по себе, насколько я понимаю, может сказываться на нём очень сложно.

В последнее время стало модно разбирать классические сказки с точки зрения психотипов. Как вы думаете, когда эти сказки сочиняли, об этом кто-то вообще думал?
На самом деле, история про психоанализ сказок тянется с конца 19 века и преображается по мере того, как развивается психология (а теперь и в целом та область знания, которая называется Cognitive Science). Деконструировать сказку — бесконечное дело, я тут вовсе не специалист, а есть специалисты.
Ну и нам бы, для простоты разговора, понадобилось как минимум разделить сказку «авторскую» и «фольклорную». Это уже дело страшно сложное и неблагодарное, я не решусь. Знаю только, например, что любые попытки интерпретировать фольклор, подходя к нему с бытовой философией другой эпохи — дело неблагодарное: фольклор плохо поддаётся такой интерпретации.
То есть нам не нужно отказаться от Золушки и Белоснежки потому, что в сегодняшнем обществе они несут какое-то устаревшее послание?
Я знаю, что есть дети, которые перестали их понимать. Дети, которые стали говорить: «Почему Золушка не пошла во дворец на следующее утро сама? Принц же ей так понравился! Зачем она заставила его себя искать?». Это же прекрасный вопрос, и он, мне кажется, говорит об очень здоровых общественных процессах.
Архетипические сюжеты живут, пока в них есть потребность, и удивительно пластичны: они меняются вместе с культурой, которая их тиражирует; у меня есть целая лекция для детей о том, как сегодня бытует «Красная шапочка», — я рассказываю в ней, среди прочего, и про страшный взрослый фильм Red Riding Hood, и про комикс Fables, и про игру Woolfe, где Красная Шапочка берёт на себя роль мстителя.
Мы не можем заставить людей забыть архетипический сюжет, но не можем заставить и помнить: огромное количество сюжетов, казавшихся вечными, исчезает и растворяется; это замечают только специалисты, да и то не всегда.
Детские книги в разное время были возможностью сказать то, что их авторы не могли бы сказать во взрослой литературе. Сегодня есть сказки, которые пытаются говорить о том, что происходит сейчас?
Я не думаю, что сейчас во взрослой литературе так уж много запретов. Они, безусловно, есть, и ещё какие, но это связано не столько с текущей политической властью, сколько с текущей общественной атмосферой. Однако в большинстве случаев, даже если книгу ждет сложная судьба, она, скорее всего, всё-таки увидит свет.
Другое дело, что есть вещи, о которых, наоборот, всё меньше и меньше говорят с ребёнком. Социолог Нейл Постман несколько десятилетий назад написал эссе «Исчезновение детства», в котором утверждал, что детства больше не существует, потому что ребёнка от взрослого в последние несколько веков отделяли только три темы: секс, смерть и деньги. Постман сообщал читателю, что с середины 20 века ребёнок всё больше приобщается ко всем трём — он становится покупателем, постоянно лицезреет насилие в медиа и всё раньше узнает о сексе, — а, значит, детства больше нет.
Сейчас мы видим, насколько Постман был неправ (детство не раз хоронили и до него). Детство никуда не делось, но оно интенсивно меняется, насколько я могу понять. Но и тут ни в коем случае нельзя говорить ни о каком гомогенном «детстве»: в одних социальных стратах оно культивируется и обставляется всё более сложными ритуалами, в других ребёнок еле-еле выживает среди мира взрослых. Мне кажется важным помнить об этом.
При этом темы, на которые нельзя говорить с ребёнком, существуют почти во всех обществах (тут в голове расцветает дерево ссылок, начиная с Мирчи Элиаде). Очень часто именно приобщение к новому знанию маркирует переход из мира ребёнка в мир взрослых. Вопрос — какие это темы и как они устроены. В этом смысле, например, «Убить Дракона» Шварца — уникальный пример почти определённого рода книги, но заметим, что в Советском Союзе нельзя было написать ни нормальную взрослую книгу про секс, ни детскую. Детская литература не была идеальным инструментом «сказать то, что нельзя сказать»: ими иногда можно было сказать чуть больше, но по-прежнему не всё.
Сегодня ситуация ничуть не проще: мы привыкли считать, что западная детская литература может говорить с ребёнком обо всём на свете («вот бы нашей так!»), но и это не вполне правда: тут ещё как есть свои запреты и ограничения. В России на действительно радикальную тему нельзя говорить ни со взрослыми, ни с детьми. Да и тем, про которые со взрослыми говорить можно, а с детьми нельзя, в России, очевидным образом, хватает: написать сейчас детскую книгу о двух влюблённых девочках, — значит, пойти тяжёлым путём, но даже если автор готов — предложить её издательству означает поставить его в неловкое положение.
Вот вам ещё пример: попробуйте написать детскую книгу про семью, которая решила эмигрировать из России из-за политического режима. Отличная была бы книжка, кстати, сколько детей переживает сейчас эмиграцию, и это очень тяжело. Можно ли написать об этом сказку? Не знаю, кстати. Очень хороший вопрос.
А сказка работает в качестве побега от нашей не очень приятной реальности?
Лично мне кажется, что да, потому что иначе мир бы никогда не утонул в «Гарри Поттере»: эта история — настоящая победа сказки. Иногда мне кажется, что сказка в некоторых случаях работает гораздо лучше, чем роман. Ровно потому, что героев, как уже говорилось, нельзя отправить к терапевту (хотя сказка, в которой работает терапия, была бы, кстати, очень прикольной).
Сейчас все очень любят сериалы. Это тоже некая форма побега?
Я думаю, что да: любой нарратив — это ключ к эскапизму, на этом держится культура.
Как вы думаете, чем сложнее жизнь в стране и в мире, тем больше будет потребность человека к сказке?
Меня смущает, что поверхностный ответ должен быть непременно «да», если следовать логике предыдущего вопроса. Но я опасаюсь, что это было бы слишком поверхностным подходом.
Мне иногда кажется, что во все переломные моменты истории наравне с интересом к эскапическим вымышленным нарративам резко возрастал и ещё один интерес — к тем нарративам, которые простым и ясным языком чётко разъясняют нам реальность. Тут бы, опять же, спросить специалиста, конечно.

Если бы надо было в сказочной форме рассказать о том, что сейчас с нами происходит, какой бы сюжет вы могли представить?
Я не смогла бы, конечно, а если бы попыталась, боюсь, что не справилась бы. У меня резко политизированные взгляды относительно происходящего в России, а сказка со слишком прямым морализаторским посылом — плохая, да и морализатор из меня никудышный. Плюс — у нас уже есть великий текст о происходящем сегодня: это «Убить дракона» Шварца. Ни прибавить, ни отнять.
У меня другая мечта: попробовать, наоборот, решать вторую задачу, ясным и внятным языком говорить с детьми о происходящем в стране. Мне хочется делать новостные выпуски детей — например, пять новостей про главные события дня, будь то хоть аресты митингующих (среди которых всё чаще бывают дети!), хоть фальсификация выборов.
Это почти невообразимый проект в смысле ресурсов, задач, команды, выживания, но мечта есть мечта. Причём самое сложное в ней — не найти всё перечисленное; самое сложное в ней — понять, готов ли ты честно отвечать самому себе на прямые детские вопросы.
Иллюстрации: Shutterstock (Tiana Geo)


















