Учителя и родители должны больше сотрудничать, чтобы детям было лучше. Но на деле между ними только увеличивается пропасть: непонимание и недоверие к новой системе образования. Научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский рассуждает, как конфликт семьи и школы стал итогом прошедшего учебного года.
Образовательную политику в конце 2017 года можно описать словами советской песни на стихи Михаила Исаковского:
«Снова замерло всё до рассвета -
Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь».
Все заметные инициативы заморожены, и даже дискуссии или обсуждение по ним остановлены.
- Объявленная процедура уменьшения количества учебников в федеральном перечне — никак не завершится.
- Изменения в федеральном государственном образовательном стандарте с внесением учебного материала и тематического планирования внутрь — так и не произошли.
- Усиление роли государства в управлении школами с возможной передачей части полномочий из муниципалитета в регион и прямым финансированием школ субсидиями — не отменено, но и не продвигается.
- По проблеме изучения государственного и родного языков принято временное решение (добровольное изучение) без прописывания и уточнения определений.
Как будто невидимая рука прочертила красные линии на ландшафте образовательной политики — и установлен запрет на переход.
Но может быть, в этом есть и положительный момент. Можно остановиться в безумной гонке перемен и разглядеть более существенные итоги года и проблемы.
На мой взгляд, одна из главных проблем, которая появилась в 2017 году, — конфликт семьи и школы. Результат этого конфликта — глубокое недоверие родителей к школе. Причина этого противоречия — неприятие и непонимание тех новых ориентиров и результатов, которые ставит перед школой система образования.
Хотя нам кажется, что школа внешне остаётся архаичной, внутри происходит инновационный рывок. Стремительно растёт разрыв между представлениями о результатах образования дедушек, бабушек и родителей современных школьников — и формализованными результатами, которые медленно и с трудом, но приживаются в системе образования.

Потому что жизнь стала меняться с сумасшедшей скоростью. И системные изменения в мире происходят за меньшее время, чем образовательный цикл. То есть мы не знаем, в каком мире будут жить сегодняшние первоклассники, а школе нужно подготовить их к этой неизвестной жизни. Учёные, эксперты и часть учителей пытаются изо всех сил не проиграть всухую в этой гонке.
Поэтому кроме привычных старшему поколению формальных сведений (в каком году была революция, кто такой Ленин, в чём суть второго закона термодинамики) появились метапредметные и личностные результаты.
Что это? Зачем это? Как это? Старшему поколению ответы неизвестны.
А новые результаты входят в школьную жизнь через ФГОСы, кодификатор ЕГЭ, КИМы, примерные, основные и рабочие образовательные программы, дополнительное образование, систему аттестации учителей, качественные показатели рейтингов и так далее.

Хорошо ещё учительство консервативно. И за одно поколение учителей вряд ли школа изменится неузнаваемо для родителей и бабушек с дедушками. Но они всё больше перестают узнавать «свою» школу.
… У школы как института трудности были с первых десятилетий своего существования, даже если вести отсчёт от прорыва Яна Амоса Коменского в XVII веке. «Учить всех всему», как завещал великий реформатор, было трудно с самого начала. Особенно трудно давался призыв учить женщин наравне с мужчинами. Затяжная конкуренция с церковью за образовательное первенство, щекотливый вопрос платности и стоимости образования, унизительное положение учителей и профессоров, мечта об академической свободе и постоянный конфликт с родителями. Одни считают, что школа даёт много лишнего, оторванного от жизни, другие, наоборот, — что школа недодаёт самого необходимого. Недовольство семьи и общества школой — настолько традиционно, что практически перестало давать материал для стратегии развития образования.
Конечно, ритуально все политики и управленцы отдают дань родительскому недовольству. В каждой школе есть управляющий совет, в котором большинство голосов у родителей. И тут есть серьёзная проблема. Потому что образование всегда питалось наследственностью. У детей из образованных семей было больше шансов получить качественное образование. Помните исторический анекдот про Луначарского?
«На одном собрании рабочий спросил наркома просвещения:
— Товарищ Луначарский, вот вы такой умный. Это ж сколько институтов надо закончить, чтобы таким стать?
— Всего три, — ответил он. — Один должен закончить ваш дед, второй — ваш отец, а третий — вы».
Обычно эту историю приводят как аргумент наследственности элит, но проблема в том, что дед, отец и сын до середины XX века учились примерно одинаково. И в школе, и в университете. И то, что студент рассказывал о своей учёбе, деду было понятно и знакомо. Это время закончилось.
Больше никогда сын не будет учиться так и тому, чему учился отец. Порвалась связь времён
… Гамлет, потрясённый встречей с призраком отца, в конце первого акта произносит: «The time is out of joint: O cursed spite / That ever I was born to set it right! Nay, come, let's go together».
Порвалась связь времён, и Гамлет сетует, что зловещее проклятье в том, что он рождён эту связь восстановить. И обращается к окружающим: «Нет, идёмте вместе».

Вот это «вместе» сближает всех, кто ощущает этот разрыв времён.
Мы должны почувствовать болезненную утрату наследственности школьной жизни, разрыв не только во времени, но и в укладе и устройстве образования. Остро, до боли!
И найти способ отстроить эту связь между поколениям, восстановить доверие к школе и нового поколения, которому жить не в прошлом, а в будущем. И родителей и бабушек и дедушек, потому что именно они, а не учебные тексты или даже произведения искусства связывают жизнь поколений, время, культуру, историю и вообще — людей между собой. Но построить этот мост не реставрацией дедовских форм школьной жизни, а погружением старшего поколения в перспективу жизни в будущем.
Поэтому я считаю, что главный итог прошедшего года — ощущение, что школа теряет доверие семьи. И нам нужно строить мост доверия.










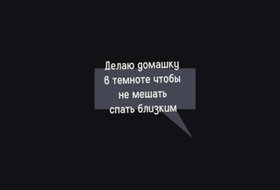





Майкл Барбер — профессор, советник премьер-министра Великобритании по вопросам
образования.
А так ничего плохого.
Мы уже заполнили «сосуд» образования не то что до краев, уже через край льется.
-Должен ли выпускник знать о страховании?
-А что в этом плохого?
И вот уже курс на 120 часов
-Должен ли выпускник быть финансово грамотным?
— А что в этом плохого?
И вот уже печется курс на 300 с лишним часов (больше чем на русский и математику)
Беда в том, что через край, при этом, выливаются фундаментальные науки, которые дают целостную картину мира
В мои школьные годы (1970-е), пожалуй, да. Потом учились мои дети… Хорошие учителя были. два-три учителя на всю школу. Их впоследствии выжили… Школу (особливо директора) вспоминаю с содроганием. Хамло и мерзота
Это колесо абсурда, его раскручивают наверху, а учителя в нем бегут, бесцельно бегут, следуя фгосам, бессмысленным программам, чтобы дети сдали огэ, потом егэ. А детям и родителям ничего не остается, как принимать эти правила, встраиваться в это чертово колесо и тоже нестись, теряя за 9 лет физическое и психическое здоровье, деньги на репетиторов, вообще отдельная тема. Вот как это? Тратить условно 5 тыс.ежемесячно на репетиторов (у кого-то суммы другие), чтобы сдать экзамены, поступить и в итоге забыть! Забыть как страшный сон бОльшую часть того, что учили, за что платили. И правильно мамы всей страны поднимают крик: до каких пор? Псевдообразование, набор услуг, положенное количество часов- все, что угодно, назовите, как угодно, но это не школа. Передержка молодежи, ненужной государству массы, до трудоспособного возраста, вот, что это такое. Молодежь в школу работать идет с трудом, потому что с критическим мышлением там не продержаться, справедливости там нет давно, в администрациях лицемеры, это понятное дело, но и детям в школе плохо. Чаще всего именно так, а выбора нет, как приговор от 9 до 11 лет
А что страшного в ЕГЭ?! Ребенок сдает экзамены ОДИН РАЗ для получения аттестата и для поступления в вуз. Мы, в свое время, сдавали экзамены по 8 предметам в школе, а потом поступали в вуз, в ОДИН, а не в пять на три специальностив каждом, да и не было тогда возможности учиться на платной основе. Так что не всё так плохо. Больше позитива. На ЕГЭ и школе жизнь не заканчивается. С Новым годом!
А между тем вся суть в том, что этих «чикагских маль-чиков» /определение Эд. Днепрова/ из ВШЭ включая автора этой статьи, на пушечный выстрел нельзя подпускать к школе. Хватит, порулили. Еще немого, и от неё ничего не останется, кроме церковно- приходских школ а-ля Делянов- Васильева. И «мудрилы» формата «Счастливой семейки ГенБукиных"под отверточные сборки.
только «лакей» и «быдло»
______________________________
Вы сами — функционально неграмотны!
Нельзя «непринимать» то, что «непонимают».
Непринимать — можно только то, что понимают (но поняв — не принимают).
Существо текущего момента — состоит в имущественно-социально-образовательной сепарации&сегрегации всего населения.
Причём этот процесс — идёт не только в РФ, в Европе и США, всё — то же самое.
Именно поэтому реднеки и трудяги в США — выбирают Трампа, а в Европе — голосуют за националистов.
СССР-у — нужны были средне образованные МАССЫ, поэтому школа — и готовила среднеобразованные МАССЫ со СРЕДНИМ образованием.
А так как усреднение шло по общемировым меркам, образование — получалось хуже, чем в 0,5% закрытых частных школах Англии, но лучше чем в 70% массовых «средних» школ США и Европы, не говоря уже об остальном мире.
Их (обученных) — некуда будет с этим образованием устраивать.
Поговорите с профессиональными кадровиками, они в один голос вам скажут, что главная текущая проблема соискателей — ПЕРЕобучение.
Переобучени, и как следствие — завышенные кадровые и зарплатные ожидания!
Для 70% текущих вакансий в москве (даже в Москве!), даже полного среднего образования СССР — СЛИШКОМ много.
Поэтому неграмотные «таджики» (настоящие таджики, без кавычек, сюда — не едут) — находят себе работу влёт, и всем и всегда нужны, грамотные, но тоже «таджики» — в лёт принимаютсяво во всякие Ашаны и Метро, и сидят на кассах, а вот «дипломированные» специалисты — никому не нужны, идут «работать» менеджерами торгового зала, или в салоны сотовой связи.
Поэтому школа — стремиться подстроиться под реальность.
И это — лучше, чем ждать, что реальность подстроиться под школу.