Беги отсюда! Почему учителя бросают школу (не только из-за зарплаты)
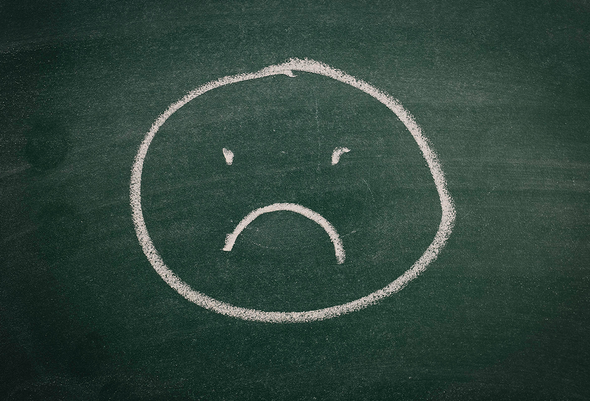
Молодые учителя приходят в школу в надежде изменить систему. Но часто не справляются: выгорают, разочаровываются, опускают руки. И уходят. Наш новый блогер — один из таких педагогов. Она поделилась своим недолгим, но насыщенным опытом преподавания в школе.
Я проработала в школе полгода. А потом ушла. Это был незабываемый опыт: я много узнала о людях, о себе, даже о своем предмете. Обучая детей, учишься и сам, потому что каждый раз, готовясь к уроку, пытаешься найти что-то, что будет им по-настоящему интересно. Я просматривала тонны текстов, проверяла информацию на достоверность и искала ответы на вопросы, которые, как мне казалось, могли возникнуть у детей.
Фактически, я каждый раз писала небольшую научно-образовательную работу, которую при желании можно было бы защищать на родном филфаке. А потом поняла, что не справляюсь. Слишком много сил уходило на то, что было очень важным в университете и совсем ненужным в школе. Детям все равно, проверила ты информацию или нет, нашла подтверждение своим словам или не нашла. Их интересуют оценки.
Когда я шла работать в школу, в голове, как и у многих выпускников, были романтические мечты о преобразовании школьной системы, о доверительных отношениях с учениками, об интересных работах и заинтересованных детях. Но жизнь оказалась другой. Спустя два месяца я поняла, что одна изменить школьный подход не в состоянии, спустя четыре — что в школьном подходе мне места нет.
Школа требует или внутренней силы, которая горы сворачивает и родителей на место ставит, или компромисса. Что-то вроде «Я буду понемногу менять мир, а школа будет понемногу менять меня». Беда в том, что мне эти изменения в себе не нравились. Я очень быстро выгорела, хоть и старалась читать книжки про стресс и применять прочитанное на практике.
Я быстро поняла, что дети привыкли к крику, они с младенчества растут в дрессировке
И если с ними начать общаться иначе, большинство воспримет это как слабость и сигнал к беспорядку. Единицы оценили мой спокойный подход, а я взамен оценила их вовлеченность, это было приятно. Ради ситуаций, в которых хулиганы проникаются к тебе любовью и перестают шуметь на уроках сами, а не потому что их напугали возможной двойкой, ради моментов, когда тихие ученики раскрываются на твоих уроках и начинают быть активными и в классе, и на перемене, наверное, и стоит преподавать. Все остальное, к сожалению, не кажется таким радужным.
Я стала кричать, потому что дети к этому привыкли, они этого ждали и вовсе не обижались, когда я повышала или откровенно срывала голос. Я ненавидела себя в эти моменты. В первый раз меня трясло. Я пообещала себе больше так не делать. Через два урока в тот же день я орала еще громче.
Иногда приходится забивать на подготовку к урокам. Если вначале я старались делать что-то классное и необычное, со временем пришел черед конспектов с инфоурока. Когда у тебя 28 часов уроков и 4 часа кружков, начинаешь расставлять приоритеты. Это мне тоже не нравилось. Я хотела, чтобы все было идеально — пришлось смириться, что идеально не будет. Тогда я захотела по крайней мере остаться собой.
Я знаю, что люди меняются, знаю, что это часть жизни. Но те изменения, которые происходили со мной в школе, я не готова была принять. Такой версией себя я быть не хотела, пришлось делать выбор. Наверное, все приходит с опытом, наверное, постепенно приспосабливаешься и понимаешь, как проживать школьную жизнь. Но полвека пройдет, пока научишься быть учителем, а все это время денег будет хватать только впритык, а нервов, скорее всего, не будет хватать совсем.
Я поняла, что это работа не для всех, а из-за нехватки кадров стать учителем, по сути, может кто угодно. Никто не будет проверять твои навыки и стрессоустойчивость в провинциальном городке, где половина учителей работает на 1,5-2 ставки. Никто не станет устанавливать тебе испытательный срок и наблюдать за тем, как ты ладишь с детьми. На мои уроки периодически приходили завучи, и, хоть я боялась открытых уроков, в сущности, это было формальным мероприятием.
Школе нужны новые люди. Уверенные, способные что-то менять. Они нужны в самые первые классы, потому что дрессировка начинается оттуда, а потом и дальше, потому что много молодых людей, наверное, способны изменить одну старую систему.
Может быть, однажды я снова вернусь, а пока буду рефлексировать и радоваться успехам тех, кто оказался на своем месте.
Вы находитесь в разделе «Блоги». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Фото: marstockphoto / Shutterstock















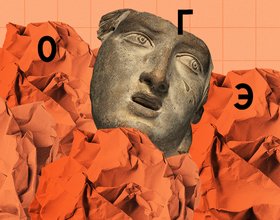
Подробнее: https://trends.rbc.ru/trends/education/6005a3b89a79474c66a5407b
В 26 лет был старшим преподавателем в СПбГТИ с кандидатской степенью. Перед этим 2 года работал ассистентом в СПбГУ. Для научной карьеры — более чем огромные достижения. Но через три года преподавательской работы ушёл добровольно и навсегда и не жалею.
1. Зарплата
В СПбГУ зарплата ассистента на полную ставку в середине 2010х составляла 12 тысяч рублей за полную ставку. В месяц. И это можно было бы потерпеть, если бы так было только у ассистентов без степени. Но у старших преподавателей зарплата была 18, у доцентов — 22 тысячи. В СПбГТИ чуть выше — 25 у старших преподавателей, 30 у доцентов. Примерно столько же, для сравнения, около 20-26 тысяч, зарабатывали на тот момент в городе кроме бюджетников только самые неквалифицированные работники — например уборщицы в коммерческих офисах. Средняя зарплата квалифицированного специалиста по городу была 40 тысяч и более.
2. Из первой проблемы вытекала вторая проблема. Кадры, и, соответственно, коллеги. Очень хорошие, энциклопедически образованные люди, отлично знавшие историю своего предмета — но лишь по той причине что они были фанатично влюблены в науку, и кроме работы, дома и библиотеки практически, а многие и фактически, нигде никогда не бывали.
И то даже среди них не было никого младше 40 лет. Иногда они устраивали общие мероприятия — например игра в шахматы на кафедре, или игра в футбол на каком-то пустыре. Ну или праздновали чей-то день рождения — либо на кафедре, купив дешевого вина и нарезки в магазине, либо вообще на пакетах под деревьями рядом с тем самым «футбольным» пустырем. Им всем при этом было 40-60 лет, большинство доктора наук и даже профессора. Это для понимания того, почему рядом с ними я все-таки чувствовал себя некомфортно и не хотел превращаться в такого же как они. Ну и касаемо квалификации, они идеально знали свой предмет — в пределах преподаваемого курса.
3. Отношение руководства.
Если в СПбГУ ещё было лояльное отношение к неполному выполнению годового научного плана, разумным опозданиям, некоторое отступление от программы курса, например, на семинарах, то в СПбГТИ все это жестко контролировалось. При указанных выше зарплатах. Оправдывалось это тем что у нас огромные зарплаты (умалчивалось что только по сравнению с другими ВУЗами) и значит мы должны выкладываться на полную. Параллельно осуществлялись попытки нагрузить преподавателей неоплачиваемой нагрузкой — например, проведение экскурсий по городу иногородним студентам, «добровольное» волонтерство в университетских мероприятиях и мероприятиях смежных учреждений.