2019 год мы начали с вопроса, какой видят нашу школу разные поколения преподавателей. Мы уже поговорили об этом с 22-летней учительницей математики и преподавательницей русского языка и литературы с 30-летним стажем. На этот раз мы дали слово директору школы — заслуженному педагогу РФ Евгению Ямбургу. Он рассказал, почему в российской школе установилась атмосфера всеобщего невроза и как можно её преодолеть.
Всего 12% детей в российских школах — полностью здоровы
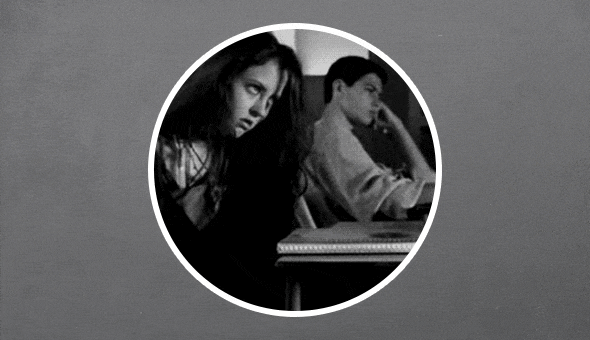
Педагогика требует мобилизации всех наук о человеке: медицины, культурологии, психологии, социологии, дефектологии. Без этого не решить проблемы наших школ, которые мы предпочитаем замалчивать, а зря.
Сегодня мы имеем дело с проблемой генетической усталости. Чем культурнее страна, тем выше уровень жизни и ниже рождаемость. Несколько лет назад в скандинавских странах открыто обсуждали вопрос о том, крадут ли дети счастье. Современной европейской женщине, чтобы почувствовать себя матерью, достаточно одного ребёнка, а лучше собачки. Они рожают, как правило, ближе к сорока годам, когда есть большая опасность родить ребёнка с проблемами в развитии.
Это тенденция, общая для развитых европейских стран. Россия тоже европейская страна, как бы мы ни настаивали на своей самости и особости. Мы выполняем европейские нормы в медицины: сегодня выхаживают даже 500-граммовых недоношенных младенцев. Это абсолютно правильно, потому что мы не фашисты, и любую жизнь надо спасать. Но нужно отдавать себе отчёт, что тем самым мы нарушаем естественный отбор.
Отсюда — не самое здоровое поколение, которое уже пришло учиться в школы. По данным Роспотребнадзора, полностью здоровых детей у нас всего 12%. У остальных либо особенности в развитии, либо инвалидность. В такой ситуации через полтора поколения главной профессией в школе станет дефектолог.
На первом месте среди заболеваний — психоневрология. Привожу пример. Недавно учительница в Перми заклеила ребёнку рот скотчем. Это,
конечно, психологическое насилие, это очень плохо, можно сколько угодно рвать на себе волосы. Ну и что? Скорее всего, эта женщина потеряет профессию, и если её не посадят, то дадут условный срок. В пределах страны я вам 50 таких случаев назову. Только я понимаю, отчего это происходит.
Дело в том, что у этого ребёнка СДВГ — синдром дефицита внимания и гиперактивности. Это значит, что между нейронами мозга нет связи, а сигналы идут в десять раз быстрее. СДВГ наследуется по мужской линии, и интеллект у этого ребёнка в норме. Мы видим их уже в детском саду — он из тех детей, про кого мы говорим «шило в одном месте». Он больше минуты игрушку не держит.
Когда он приходит в школу, говорить такому ребёнку «Будь внимательнее» всё равно, что слепому говорить «Присмотрись». Он не виноват, но он кричит и мешает остальным. Учительница не может выгнать его в коридор, потому что отвечает за него, мало ли что произойдёт. В итоге она заклеивает ему рот — и идёт под суд. Но кто учил её работать с детьми с СДВГ?
Это новая компетенция, которой учитель сегодня не обладает. И я назвал
только один диагноз, а могу — гораздо больше.
Дети видят, что взрослые разучились слушать друг друга
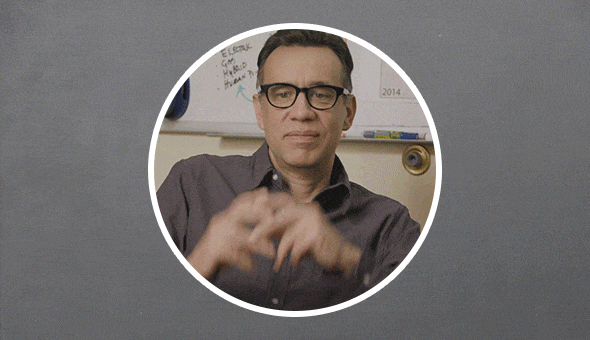
В России люди испытывают тройной кризис — мировоззренческий, нравственный и психологический. Каким бы ни был коммунистический проект, он давал надежду на светлое будущее: вот через четыре года здесь будет город-сад, через двадцать лет — коммунизм, а пока можно потерпеть. Куда мы движемся сегодня, большой секрет — в этом мировоззренческий кризис.
Мандельштам в 1914 году писал: «Есть ценностей незыблемая скала». Но она
оказалась разрушена — больше ничего не стыдно. Отсюда коррупция, повсеместный обман и нравственный кризис. Как только у мужчины гаснут глаза, как только теряется интерес, начинаются инфаркты, онкологические заболевания. В этом психологический кризис. Женщины более живучи: во-первых, организм рассчитан не только на себя, во-вторых, женщина не теряет смысл жизни и продолжает жить для детей, внуков.
Какое это имеет отношение к школе? У родителей-невротиков дети тоже невротики. Они видят, что взрослые не слушают друг друга и выясняют отношения между собой криком. Если этот ребёнок не вписывается в учебный процесс, у него рождается агрессия, стремление отомстить за собственную неполную адекватность на уроке.
У маленьких детей появился страх войны

Сама обстановка в российском обществе взвинченная, политизированная. Если судить по телевизионным ток-шоу (они хуже порнографии), то человеческая жизнь практически не ценится.
Микроисследование в детском саду при моей школе показало, что у маленьких детей впервые появился страх войны. Всё это создаёт страшно невротическую обстановку. Суициды у подростков случаются каждый день. Просто не всё попадает в прессу, и слава богу, потому что каждая такая новость провоцирует следующие случаи.
Возникает вопрос, почему это происходит? Наши государственные мужи мыслят поверхностно, фрагментарно и непрофессионально, к экспертам не прислушиваются, а потому ищут причину в интернете, в жестоких играх, американских школьных стрелках. Но это полная чушь. Ни одно исследование в той же Америке не подтвердило такие связи. У детей всегда глубокие, серьёзные личностные причины для таких поступков.
Нельзя растить одарённых и обычных детей отдельно друг от друга
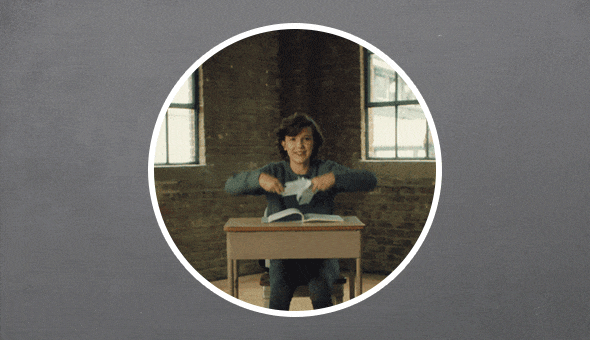
Мы очень плохо принимаем реальность. Тешим себя иллюзиями, придумываем мифическую картину и работаем на неё. Я много езжу по стране. Приезжаешь в маленький город, где на 150 тысяч населения — целых пять гимназий. На конференции начальник управления образования хвастается, сколько у них в этом году стобалльников и победителей олимпиад. Я аккуратно и, к сожалению, ехидно спрашиваю: откуда вы берёте столько одарённых, если их, по статистике, в любой стране не больше 2%?
То, почему маленькие города открывают гимназии, а не обычные школы, очевидно: там другое штатное расписание, выше зарплаты. Вопрос в другом: когда все эти способные ребята уедут в Москву, Санкт-Петербург или другие страны просто потому, что в этом маленьком городе негде дальше учиться, с кем вы останетесь? С теми, кого сами считаете образовательным спамом? Кого вы сейчас выпихиваете из школ, чтобы быть в рейтингах. Тех, кто будет определять качество жизни в вашем городе?
За одарённых принимают тех немногих нормальных, у кого сохранный интеллект, родители приличные и память нормальная
В шкале циклофрении и шизофрении одарённость приравнивается к шизоидности. Это не оскорбление: мы все на этой шкале находимся. Одарённые дети — опасная категория. Такие, как Надя Рушева, к сожалению, долго не живут. Они как хрустальная ваза. Если одарённый ребёнок не победил в международной олимпиаде или получил, не дай бог, четвёрку, он выходит из-под контроля и может сделать что угодно. Начнёт стрелять в школе.
Андеграундный поэт Всеволод Емелин, который в интернете известен как большой любитель использовать ненормативную лексику, написал такие стихи. Они называются «Песня о рабочем районе»: «От этих подростков, бледных и тощих, / Ещё содрогнётся Манежная площадь».

За что я ненавижу школу: монолог учителя
Эти строки были написаны 12 лет назад. Ещё до событий на Манежке, когда громили машины, до событий в Бирюлёво, когда резали гастарбайтеров. Поэтому я убеждён, что учить надо всех — и одарённых, и одурённых.
Их соседство в образовательном процессе при грамотном педагогическом подходе — тоже тренинг толерантности. Никто из них не будет жить в гетто — отдельно для одарённых, отдельно для больных, отдельно для здоровых. Они все друг другу нужны.
Школьная жизнь должна быть насыщена событиями, а не лекциями

Несправедливо будет сказать, что в России не было реформы образования. Была. Но она касалась технической стороны — системы управления и финансирования. Великий русский педагог Ушинский говорил, что никакое изменение в образовании невозможно иначе, как через голову учителя.
То, что мы сейчас делаем с новым профессиональным стандартом, — это, по сути, реформа через голову учителя. Он входит в класс самой обычной школы, а там один с имплантатом в ухе, другой на коляске, а третий с СДВГ. И что он будет делать? Нужно приобретать новые компетенции.
Современному ребёнку интересно участвовать, а не сидеть ровно на попе и слушать лекции взрослых
Современная педагогика — событийная. Детей надо удивлять. В моей школе есть театр. Я и режиссёр, и сценарист. Но для меня это просто инструмент снятия агрессии и ненависти.
Я пишу сценарии о современных проблемах, и дети проживают их. На обложке моей книги про школьный театр есть фотография девочки. Она делает сложнейший пластический этюд про то, как из души уходит детство. Только эта девочка не говорила и не ходила до шести лет… Но она поднялась.
Каждый год 19 октября мы проводим День лицея. В последний раз нарядили и загримировали 15 мальчиков в Александра Пушкина и 15 девочек — в Наталью Гончарову. Они бегали по школе и терроризировали учителей физики и химии, работников столовой — читали им стихи и требовали назвать, откуда они. Это проверка на гуманитарную культурную подготовку лучше, чем любое ЕГЭ для учителя. Никто из них не хотел выглядеть дураком.
Театр — не единственный инструмент. Такие события можно создавать вокруг чего угодно — волонтёрства, кино. Несколько лет назад одна моя ученица пыталась покончить собой: мальчик от неё ушёл. Я пригласил её в качестве волонтёра в госпитальную школу — это проект школ при больницах для тяжелобольных детей, который работает в 26 регионах России.
Когда она попала в отделение, где лежат облучённые, лысые, в масках девочки, которые борются за жизнь и побеждают болезнь, при этом блестяще учатся и сдают экзамены, собственные проблемы показались ей такой ерундой! Система ценностей сразу встала на место.
Социологические исследования показали, что выгорание в профессии учителя в два раза выше, чем в МВД, где работают с преступниками. В российских педагогических вузах, к сожалению, архаичный подход к образованию. Так что наша главная задача — это подготовка кадров.
Фото: Shutterstock (Aaron Amat). Иллюстрация: Shutterstock (Zoa-Arts). Гифки: giphy.com









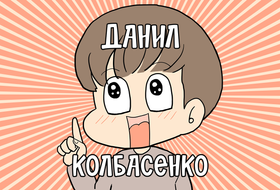







Система только обложка для общества, которому плевать на индивидуальность. Индивид вынужден искать круг по интересу (друзья, социальные сети, форумы, сообщества) и постепенно в него вливается.
А понятие «осознанный человек» формально уходит в тематику грамотного мышления — обыкновенного здравомыслия.
А дальше, после снятия напряжения, пойдёт двумя путями — если найдётся тот, с кем человек может подделится, с кем может поговорить, то человек сможет всё обдумать, осмыслить, а после решить. Если же нет, то он просто «убежит от реальности», закроется от других, чтобы перевести фокус внимания и не чувствовать остаточную эмоциональную боль, формально такие эмоции как расскаяние, стыд или позор, что в итоге вылевается в попытки лишь избежать таких эмоций, а к чему это приводит мне очень трудно представить.
Конечно, есть определенные моменты, которые индивид может решать сам с собой, через внутренний диалог. Но это скорее следствие из умения взять отвественность за себя и ближайшее окружение, чем какой-то универсальный метод.
(не сарказм!)
Есть на кого равняться.
Да процветают мозги!
Высказывания Ямбурга бывают спорными, но тут он все из жизни выдал — как есть. Ну а у психолога — работа такая — понимаю.
А я уже давно ничему (и никому) не верю — только своим мозгам. В данном случае, они мне подсказывают, что ситуацию он «расписал» грамотно, а вот как из нее выходить — вот это большой вопрос.
Когда читаю подобное, вспоминаю один «веселый» педсовет 10-и — 12-и летней давности: 90% учителей не знали как подойти к компьютеру, а наша администрация пол-часа спорила, какую формулировку внести в протокол педсовета: «повышение ИКТ-компетенций, или ИКТ-компетентностей». В результате, одному из замдиректоров было предложено «более плотно» изучить сей вопрос и вынести его на следующий педсовет. Так и тут.
Проблема озвучена, причины названы. Как решать — вот главное! И тут выясняется, что автор забыл запятую поставить — значит, нет ему доверия — «всё в топку»!
Но я согласен с тем, что уезжают все, кто могут уехать. А мы остаёмся с тем, что остаётся.
Так что страх войны у маленьких детей был в благополучное советское время
Ну вот, а нас уверяли, что в стране экономический кризис…
Но, больше были интересны комментарии со стороны психологов.
Извините, друзья, но, по-моему, все ваши психологические абстракции, которые текут и изменяются — давно оторвались от реальности (а в сущности никогда с ней не соприкасались). Вы такие умные, а мы вот не очень, т. к. абстракциями вашими оперировать не умеем. Это ваш способ зарабатывать деньги — не более. А педагогическая практика — какие в ней абстракции? — детям чихать на них)
Общая ситуация с обучением ухудшается — это факт. И чем больше вы будете умничать, тем хуже будет становиться. Делом займитесь!
Посидел, подумал, что для начала вам предложить в качестве дела. И понял, что ничего вы стоя на зыбком фундаменте современной психологии сделать не сможете — вы бесполезны! Отдельным особям за соответствующую оплату (за абстракции) вы может быть и помогаете, но ситуация в массовом сегменте и психологические науки — не пересекаются…
Не принимайте написанное на личный счёт, если что. Всем добра!
Прочитал в комментариях, что авторитет автора перебил скепсис у читателей, очень жаль.
Есть ли на меле редактор?
Замечательная статья. Побольше бы таких примеров подхода к образованию, да в массы. Особенно в курсах старшей школы и в высшем образование. Подход похожий, суть та же, но интерес уже другой, лишь остаточное эмоциональное течение.
Хорошим примером подхода в школе являются детские кружки, особенно во внеучебное время — порядок добровольный, кружки по интересам, а занятия близки к минимальным профессиям взрослых: художественно-ремесленные, фотографический, естествознания (минералы), садоводческие, кружки технарей, музыкальные, спортивные, литературные, театральные, компьютерные (были времена) и т. п. Главное, чтобы ребёнок был чем-то занят и без принуждения (!) со стороны родителей. Занятия с самыми простыми инструментами, всегда есть наставник, а посещения кружка стоит недорого (в моё время, 2007–2009 года, посещения компьютерного кружка обходилось около 400 рублей в месяц, а ремесленные кружки (помимо уроков технологии) вообще требовали только материал, последние посещали много кто, часто были старшеклассники, они же и помогали учетилю технологии). Сейчас это превратили в какой-то балаган — «бизнес-шмизес».
Вовлеченность говорите -выше отличный пример с соответствующими комментариями.
Мда… Сильно же увлекла меня эта тема. Рекордный комментарий на MEL.
А всё остальное — успеваемость, внимание, проблемы и невзгоды, социальное взаимодействие и неврозы уйдут естественным путём проб и ошибок, осмысленния и диалога, когда человек перестанет видеть себя лишнем и почувствует свою роль в процессе, свою собственную вовлечённость.
1. Акцент на «загнивающий запад» с первых абзацев.
2. Ряд утверждений и цифр без ссылок на источники, зато цитаты Мандельштама и Емелина.
3. Цифра «всего 12%» здоровых детей, списывается на возросшее количество болезней, а не улучшенную диагностику и критерии наличия болезни, хотя на первое место автор статьи ставит психоневрологичеческие заболевания, которые как раз диагностировать стали не так давно.
4. Проблему возросшей заболеваемости в начале текста однозначно списывают на гены, при том на примере Европы, а затем делают резкий переход на социальные факторы в России, но размазывают это на несколько подглав, хотя социум, вероятно важнее.
5. Заклеивание ребенку рта скотчем, объясняется тем, что у ребенка СДВГ, говорить ему «будь внимательнее» бесполезно, выгонять из класса — нельзя, а у учителя нет соответствующей компетенции по работе с такими детьми, а значит скоро будут сплошные дефектологи… Ну, если учительские компетенции ограничиваются «будь внимательнее» и «вон из класса», пусть лучше дефектологи будут.
6. «Такие, как Надя Рушева, к сожалению, долго не живут. Они как хрустальная ваза. Если одарённый ребёнок не победил в международной олимпиаде или получил, не дай бог, четвёрку, он выходит из-под контроля и может сделать что угодно. Начнёт стрелять в школе.» — закрыл статью.
Обидно видеть в интересном издании подобый компот из личного мнения, логических уловок и риторических приемчиков искажающих факты.